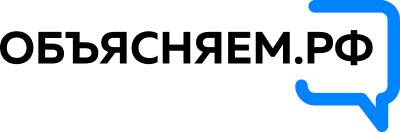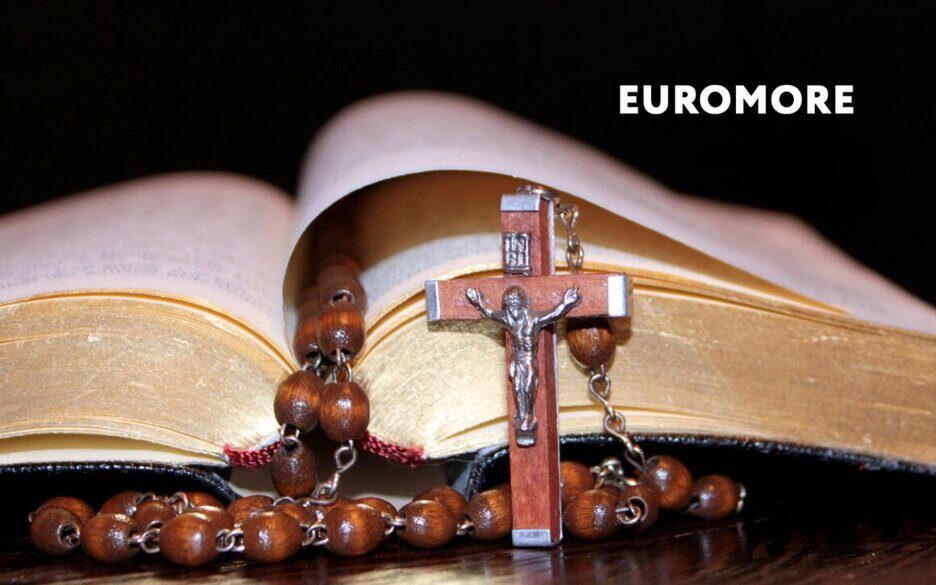Сергей Шиптенко: Союзное государство и ЕАЭС: проблемы диверсификации и кооперации 19.10.2016 20:38
Сергей Шиптенко: Союзное государство и ЕАЭС: проблемы диверсификации и кооперации 19.10.2016 20:38Интеграция на постсоветском пространстве сталкивается с рядом угроз, детерминированных запущенным в прошлом веке процессом нациестроительства. Объективная необходимость объединения в условиях возрастающей глобальной и региональной конкуренций, кооперации в различных сферах и сотрудничества в иных формах входит в противоречие с заявленными приоритетами укрепления независимости и суверенитета.
Одним из приоритетов государственной политики Белоруссии в ряде документовзаявлена диверсификация экспорта. Под предлогом обеспечения экономической безопасности предлагается переориентировать экспорт белорусских товаров с российского на друге рынки.Предполагалось, что уже в 2016 году экспорт будет диверсифицирован с направлением по трети в ЕС, ЕАЭС и страны «дальней дуги». Однако, судя по данным Белстата, освоение новых рынков зафиксировано на уровне статистической погрешности, а доля России во внешней торговле возрастает. Так, в I полугодии 2016 года в РФ было направлено 43,2% белорусского экспорта, а годом ранее - на 4,3% меньше. Такие результаты диверсификации беспокоят не только руководство РБ, но и его западных консультантов, трактующих тесные связи белорусских и российских субъектов хозяйствования как «вызовы», «угрозы» и «риски».
При негативном восприятии белорусско-российского сотрудничества не приходится говорить о позитивных перспективах – ни на страновом, ни на межрегиональном уровнях. Риски политизации экономических отношений между Минском и Москвой присутствовали весь постсоветский период, усилившись в связи с «разворотом на Запад» официального Минска и акцентом во внутренней политикена конструировании новой идентичности белорусов. Идеологическая детерминированность экономической политики породила ряд проблем в отношениях с Москвой, которая считается стратегическим партнёром, как и Пекин. Ряд белорусских чиновников, оппозиционеров и независимых экспертов заявили о своих фобиях, вызванных неспособностью конкурировать с российскими компаниями, а также угрозой формированию «национальной буржуазии», которая рассматривается как базис суверенитета и независимости.
У элит постсоветских республик велик соблазн увлечься сиюминутной выгодой альтернативных проектов в ущерб стратегии развития. В 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином была заявлена концепция «Один пояс и один путь», в рамках которой реализуются проекты «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века». Реализуя данную концепцию, Китай стремится оптимизировать и развить маршруты доставки своих товаров по трансконтинентальным маршрутам. При этом декларируется стремление к партнёрству и его развитию, к сотрудничеству не только в торговой сфере – также в сферах культуры и других. В ответ поступают запросы на торговое сотрудничество в формате обслуживания китайского транзита. Китайские инвестиции зачастую сводятся к «связанным» кредитам под закупку китайских товаров и услуг, а кооперация – к созданию сборочных производств фактически китайских товаров (минские заводы «Мотовело», «Горизонт» и др.).
Согласно статистике Нацбанка Белоруссии, по итогам 2015 года внешнеторговый оборот товаров и услуг, рассчитанный по методологии платежного баланса, упал на 24,7% к уровню 2014 года и составил $65,5597 млрд: экспорт составил $32,8827 млрд млн (-24,1% к уровню 2014 года), импорт упал до $32,677 млрд (-25,4%). Товарооборот Белоруссии с партнёрами по ЕАЭС упал на 26,7% - до $28,2045 млрд. При этом взаимная торговля с Казахстаном и Киргизией рухнула почти в два раза. Падение товарооборота с Россией было весьма существенным - на 26,3% до $27,5333 млрд: белорусский экспорт сократился до $10,3891 млрд (-31,6%), а импорт — до $17,1442 млрд (-22,7%). Росстат такжезафиксировал падение взаимной торговли.
ЕЭК в свою очередь констатировала: «Объем взаимной торговли товарами за январь – декабрь 2015 года, исчисленный как сумма стоимостных объемов экспортных операций государств – членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) во взаимной торговле, составил 45,4 млрд. долл. США, или 74,2% к уровню января – декабря 2014 года».
Товарооборот с Россией и другими партнёрами по ЕАЭС продолжил падение в начавшемся 2016 году. По данным Белстата, за I полугодие 2016 года Белоруссия экспортировала товаров на $11,1394 млрд (-18,8% к уровню января-июня 2015 года), импортировала на $12,9632 млрд (-13,3%), заработав отрицательное сальдо внешней торговли: -$1,8238 млрд. При этом товарооборот с Россией за I полугодие 2016 года уменьшился всего на 9,9% к уровню кризисного 2015 года. Белорусский товарный экспорт в РФ упал на 4,2% до $4,8167 млрд, импорт из РФ – на 13,2% до $7,4598 млрд. За январь-июль Белоруссия сократила внешнеторговый оборот товаров и услуг до $32,8735 млрд - на 14,3% к уровню такого же периода 2015 года.
За январь-август 2016 года объём промышленного производства в Белоруссии сократился (в сопоставимых ценах) на 1,8% к такому же периоду прошлого года, а сельхозпроизводства — на 2,2%. Падение белорусского экспорта обусловлено не только падением мировых цен, но также падением производства, что обусловлено проблемами низкого спроса на белорусские товары и услуги. Заявленный курс на модернизацию и широкое внедрение инноваций, даже построение инновационной экономики выглядел красиво, но ресурсов (интеллектуальных, технологических, сырьевых и иных) у постсоветской республики не было и при нынешнем статусе не будет.
Логичным и оправданным стало устремление Белоруссии к интеграции с традиционными партнёрами. ЕАЭС объединяет пять из пятнадцати республик распущенного СССР – Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию. Совокупные объёмы рынков, трудовых, сырьевых и других ресурсов дают повод для геоэкономического оптимизма. Ни одна из стран ЕАЭС в одиночку не может противостоять мировому Западу, поэтому у интеграции нет позитивной альтернативы. Однако ЕАЭС страдает той же болезнью, что и СНГ – безответственностью. Необходимы более эффективные механизмы не только принятия решений, но также контроля за их исполнением и понуждения к их исполнению.
Союзному государству, а ЕАЭС тем более, необходима смена парадигм. Требование преференций в двусторонних и многосторонних форматах должно смениться интеграционным соработничеством, на смену конкуренции должна прийти кооперация. При этом позитивных примеров не так уж много.
В 2013 году было заявлено о намерении реализовать в рамках Союзного государства «пять пилотных проектов» в промышленной сфере: слияния ОАО «МАЗ» и ОАО «КамАЗ» в холдинг «Росбелавто», ОАО «Интеграл» и ОАО «Российская электроника», ОАО МЗКТ и ГК «Ростехнологии», ОАО «Пеленг» и ФКА «Роскосмос», ОАО «Гродно Азот» и ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим». Из десятков проектов было отобрано всего лишь пять в тех сферах, где предприятия России и Белоруссии были наиболее готовы к объединению. Однако ни один из этих проектов не состоялся, что стало сильным имиджевым поражением не только Союзного государства и национальных правительств, но также ударом по проекту ЕАЭС, т.к. Союзное государство позиционируется как наиболее «продвинутая» форма постсоветской интеграции (не считая интеграцию Прибалтики в ЕС). Очевидно, заявленные проекты должны быть реализованы, причём ими дело не должно ограничиться.
Не теряет своей актуальности заявленная почти 10 лет назад инициатива руководства Белоруссии по созданию «белорусско-российских ТНК» и альянсов. Реализация таких инициатив в интересах России в целом и российских регионов в частности. Кооперация достойна подкреплением «связанными» российскими кредитами, как это делает КНР. Среди препятствий – разные типы экономик, разные технологические уклады, значительные различия в национальных законодательствах и множество других проблем – вплоть до владения русским языком преподавателями вузов и специалистами.
Восстановление и развитие связей с российскими регионами, как верно неоднократно отмечал А.Г. Лукашенко, спасло белорусско-российскую интеграцию в период становления Союзного государства. Межрегиональное сотрудничество позволит не только укрепить российскую государственность, но и развивать базис воссоединившегося Крыма. Проблема развития прямых экономических связей Крыма с Белоруссией осложнена отказом официального Минска юридически признать РФ в новом федеративном составе, хотя де-факто признание Крыма частью России присутствует. Поэтому контакты с Белоруссией могут развиваться не напрямую, а по тем же схемам, что и с Приднестровьем или с Абхазией. Однако для Крыма партнёрство с Белоруссией не является критически важным – гораздо большее значение имеет развитие связей с российскими регионами.
Природные условия Крыма позволяют внести значительный вклад в импортозамещение. Формы, методы и инструменты данного направления деятельности демонстрирует не только Белоруссия, однако её опыт свеж и весьма интересен в части эффективности и допущенных ошибок. Очевидно, традиционный туристический бизнес всегда будет занимать достойное место в экономике субъекта РФ, однако нынешняя огромная зависимость от одной сферы услуг весьма опасна не только для социально-экономической, но и политической стабильности Крыма. Поэтому развитие традиционных и новых отраслей позволит решить сразу несколько хронических проблем региона.
Прямые и косвенные инвестиции в экономику Крыма могут направить не только госкорпорации, но и иностранные инвесторы, которые, как показывает опыт Белоруссии, находят возможности обходить прямые запреты даже в условиях режима санкций и жёсткого противостояния национальных правительств. В частности, Иран и Израиль считаются мировыми лидерами в рыбоводстве, отдельные страны бывшего СЭВ также могут инвестировать технологии в производство морепродуктов. Интересен болгарский опыт ферм по выращиванию мидий, на правах концессии или на иных условиях можно разрабатывать и предлагать инвестиционные проекты. Не менее интересен белорусский опыт развития фармацевтики, способной значительной добавочной стоимостью улучшить показатели ВРП. Развитие садоводства в Крыму может полностью закрыть проблему пресловутых польских яблок – тем более, что на польские саженцы санкции не распространяются. Не являются «санкционкой» и оборудование для пищевой промышленности, производства комбикормов и биодобавок, компактные и мобильные птицефермы производства ЕС, фасовочное оборудование, станки и материалы для производства малых судов. При этом возможно привлечение квалифицированных специалистов из деградировавших украинских предприятий.
Крым может поставлять в северные регионы РФ значительные объёмы ягод и грибов, сухофруктов и бахчевых, концентратов соков и детского питания, а также широкого ассортимента другой продукции. Капиталовложения в консервные заводы и небольшие базы хранения плодоовощной продукции окупятся гораздо быстрее, чем в менее привлекательных для туристов регионах. При этом возможна проработка проектов создания непрофильных активов заинтересованных компаний под гарантии правительств Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Методологическую и иную помощь могут оказать российские НИИ, в которых имеются как новейшие, так и ещё советских времён наработки. Целесообразно создать в Крыму институт пищевой промышленности, интегрировав вузы с сетью профильных ПТУ и техникумов.
Договор о создании Союзного государства должен быть реализован. Не может быть успешной промышленная интеграция без интеграции финансовой сферы, экономическая интеграция не может быть успешной без интеграции в сфере гуманитарной. Необходима согласованная кредитно-денежная политика, ориентированная на реальный сектор экономики, с созданием условий не хуже, чем созданы для конкурентов в странах-лидерах. Кредитование реального сектора должно стать главной заботой национальных правительств и наднациональных органов СГ и ЕАЭС. Следует ускорить процесс создания единой валюты - на переходный период возможен расчет в национальных валютах или аналога безналичного экю. Эмиссионный центр единой валюты Союзного государства (союзного рубля) должен находиться в Москве. В рамках ЕАЭС должен быть заключён валютный союз с последующим введением единой валюты Евразийского союза, привязанной к «корзине валют» стран-участниц.
В Союзном государстве должна стать фактом единая промышленная политика, а в ЕАЭС – согласованная, что позволит осуществить кооперацию промышленных комплексов в рамках стратегии реиндустриализации. Должны быть унифицированы меры тарифного и нетарифного регулирования, равного доступа к госмонополиям, единых правил субсидирования и др. Кооперацию в промышленной сфере должна дополнять кооперация НИИ, что позволит выработать стратегию инновационного развития. Без единого гуманитарного пространства невозможно решить множество проблем – от подготовки необходимых специалистов в кратчайшие сроки до создания идеологической основы интеграционной политики, что, как свидетельствует украинский опыт, немаловажно.
Уместно поставить вопрос о комплексной программе опережающего развития ЕАЭС при двухуровневом кураторстве – ЕЭК и национальных правительств. При этом следует расширить полномочия ЕЭК и ответственность национальных правительств. Союзное государство в краткосрочной перспективе должно стать полноценной конфедерацией, а ЕАЭС по степени интеграции не должен уступать ЕС. Для реализации этих целей у глав государств достаточно полномочий, проблема в политической воле, а цена вопроса – будущее наших народов.
Комментарии
Комментариев пока нет