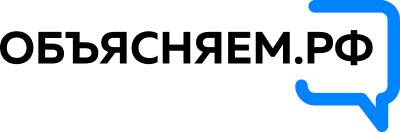Читая дневники Пришвина 1917-го года 12.04.2017 08:51
Читая дневники Пришвина 1917-го года 12.04.2017 08:51Пришвин записал в дневнике 29 апреля 1918 г.: «Новое революции, я думаю, состоит только в том, что она, отметая старое, этим снимает заслон от вечного, древнего». Непростая мысль. Что следует за снятием такового заслона — очищение или продолжение помрачения? Уже век мы не можем выйти из этого русского тупика, в череде «капитализм — коммунизм — новый капитализм». Оттого сейчас пытаемся вчитываться в записи, наблюдения, размышления и горькие сокрушения выдающихся свидетелей той страшной поры.
Михаил Михайлович Пришвин, сын преуспевавшего елецкого купца, был вовлечен в гущу событий русской смуты 1917 г. и как собственник родового имения, и как гражданин Российской Империи, и как чиновник, и как писатель, оставивший бесценные дневники того периода, а вел их он с 1905-го года фактически до самой своей кончины, по 1954-й, шутливо делился с супругой: «За каждую строчку моего дневника — десять лет расстрела». До нас дошло 25 томов этого беспрецедентного дневника, который стал появляться частями в печати — в книгах и журналах — с начала 1990-х.
Наблюдал за той переломной, катастрофической действительностью писатель и в деревне, и в обеих столицах. С начала 1917 г. он работал в Министерстве земледелия — в отделе, который отвечал за снабжение хлебом, а потому привелось ему в Санкт-Петербурге воочию наблюдать Февральскую революцию. Затем отбыл в деревню как делегат Временного комитета Государственной думы по Орловской губернии, где и провел основное время до октября, а после и годы Гражданской войны.
Мы привыкли со школьной скамьи, что Пришвин — это замечательные рассказы о русской природе, такие как «Лисичкин хлеб», «Синий лапоть», «Как Ромка переходил ручей», «Как я научил своих собак горох есть», «Дедушкин валенок» и многие-многие другие. Мы читали его тома «Кладовая солнца», «В краю непуганых птиц», «Лесная чаша», «Зеленый шум», «Кащеева цепь», «Голубиная книга». Но мало знали, что Михаил Пришвин — не только наблюдатель, коему вождь народов «разрешил» писать о «птичках», но и мыслитель с яркой афористичностью. Дневники открывают нам тайники его сердца и разума, расширяют русскую традицию сокровенных записок и розмыслов.
13 марта 1917 г. Пришвин повстречал в банке старика-купца из провинции:
«— Республика или монархия?
— Республика, потому что сменить можно.
— А как же помазанники?
— В писании сказано, что помазанники будут от Михаила до Михаила — последний Михаил, и кончились. А теперь настало время другое, человек к человеку должен стать ближе, может быть, так и Бога узнают, а то ведь Бога забыли».
Современный исследователь С. Кара-Мурза полагает, что не к гражданскому обществу свободных индивидов стремились люди после краха сословной монархии, а к христианской коммуне (обществу-семье), и в столкновении этих двух разных образов будущего зародилось то семя, из которого, к общему горю, выросла Гражданская война. С самых первых дней революции крестьянство выдвинуло требование издать закон, запрещающий земельные сделки в условиях острой нестабильности.
Пришвин записал уже 26 марта 1917 г.: «Что в аграрном нашем вопросе можно сплеча решить, не копаясь в статистике и в аграрной науке всякой, — это чтобы земля, во-первых, не была подножием политической власти земельного класса и, во-вторых, чтобы земля не была предметом спекуляции… Невозможно землю отобрать у частных владельцев, но возможно запретить ее продавать иначе как государству. Причем для мелкого землевладения и среднего можно сделать облегченные налоги, для крупного — такие большие, что продать ее государству будет необходимостью».
Забегая вперед на полтора стремительных и огромных года, скажем здесь, что 27 декабря 1918 г. он напишет: «Что же такое это земля, которой домогались столько времени? Земля — уклад. “Земля, земля!” — это вопль о старом, на смену которого не шло новое. Коммунисты — это единственные люди из всех, кто поняли крик “земля!” в полном объеме».
Чуткий наблюдатель Пришвин отмечал в марте же: «Эсеры мало сознательны, в своем поведении подчиняются чувству, и это их приближает к стихии, где нет добра и зла. Социал-демократы происходят от немцев, от них они научились действовать с умом, с расчетом. Жестоки в мыслях, на практике они мало убивают. Эсеры, мягкие и чувствительные, пользуются террором и обдуманным убийством».
19 мая: «Сон о хуторе на колесах: уехал бы с деревьями, рощей и травами, где нет мужиков».
Ощущая постепенное превращение внешней войны в гражданскую Пришвин пишет в дневнике 21 мая: «По городам и селам успех имеет только проповедь захвата внутри страны и вместе с тем отказ от захвата чужих земель. Первое дает народу землю, второе дает мир и возвращение работников. Все это очень понятно: в начале войны народ представлял себе врага-немца вне государства. После ряда поражений он почувствовал, что враг народа — внутренний немец. И первый из них, царь, был свергнут. За царем свергли старых правителей, а теперь свергают всех собственников земли. Но земля неразрывно связана с капиталом. Свергают капиталистов — внутренних немцев».
.
24 мая: «Чувствую себя фермером в прериях, а эти негры Шибаи-Кибаи злобствуют на меня за то, что я хочу ввести закон в этот хаос».
28 мая: «Как лучше: бросить усадьбу, купить домик в городе? Там в городе хуже насчет продовольствия, но там свои, а здесь в деревне, как среди эскимосов, и какая-то черта неумолимая, непереходимая».
14 июня: «Приезжают два члена земельной комиссии описать мою землю, два малограмотных мужика, один спрашивает, другой записывает, спрашивает небрежно, без плана, записывает на грязном лоскутке бумаги кривульками, путаными рядами, вверх, вниз, сбоку нечиненым карандашом, слюнявя и облизывая пальцы. Объясняю им, как что — нужно разграфить бумагу и над графами заголовки подписать. Шемякин суд.
— Дожидаемся, — говорят, — дезинфекции.
Что такое «дезинфекция», объяснили: “Конторские книги”.
Соседу рассказываю про дезинфекцию, он смеется и говорит: “Робеспьеры, Робеспьеры!”»
Перерастание неприязней в ненависть в среде имущих классов и значительной части культурного слоя России отмечалось многими наблюдателями уже начиная с лета 1917 г.
«Никого не ругают в провинции больше кадетов, будто хуже нет ничего на свете кадета, — пишет Пришвин. — Быть кадетом в провинции — это почти что быть евреем».
Внутренне негодование помешало писателю сделать прозорливый вывод обо всех этих «марксистах, социалистах и пролетариях». 15 июня он гневно писал: «Мне вас жаль, потому что в самое короткое время вы будете опрокинуты, и след вашего исчезновения не будет светиться огнем трагедии… И я говорю вам последнее слово, и вы это теперь сами должны чувствовать: дни ваши сочтены».
Но когда летом начались крестьянские волнения, уже 5 июля Пришвин, в общем-то, сторонник либерализма, записал в дневнике, что либеральная революция потерпела крах, Россия пошла по какому-то совершенно иному пути: «Елецкий погром — это отдаленный раскат грома из Азии, и уже этого удара было довольно, чтобы все новые организации разлетелись, как битые стекла. Эта свистопляска с побоями — похороны революции. Дни революции в Петрограде вспоминаются теперь как первые поцелуи единственного, обманувшего в юности счастья».
8 сентября: «Всюду говорят, что большевики трусы, а почему-то все их очень боятся. Все старики эсеры и все меньшевики-оборонцы говорят, что большевизм основан на проповеди мира, то есть эгоизма материального, утробного, и этому они ничего не могут противопоставить, кроме слов. Их слова лопаются в воздухе, как мыльные пузыри. Словам не за что уцепиться… Что же это сильное, что рано или поздно противопоставится чертовому искушению народа? Будет это новое имя старого Бога (прежнее имя не действует) или дубинка здорового народа, который восстановит лицо свое в гражданской войне?».
14 сентября: «Без всякого сомнения, это верно, что виновата в разрухе буржуазия, то есть комплекс “эгоистических побуждений”, но кого считать за буржуазию?.. Буржуазией называются в деревне неопределенные группы людей, действующие во имя корыстных побуждений».
Современный историк комментирует вроде бы парадоксально: «Октябрь» открыл путь стихийному процессу продолжения Российской государственности от самодержавной монархии к советскому строю минуя государство либерально-буржуазного типа. Пришвин раздраженно пишет 30 октября: «Просто сказать, что попали из огня да в полымя, от царско-церковного кулака к социалистическому, минуя свободу личности».
И — уже пеняет своим «испортившим дело либералам»: «Виноваты все интеллигенты: Милюков, Керенский и прочие, за свою вину они и провалились в Октябре, после них утвердилась власть темного русского народа по правилам царского режима. Нового ничего не вышло». Поразительно: фактически большевики относительно либералов выступили как реставраторы, контрреволюционеры, словно реализуя новое воплощение традиционного представления о самодержавной власти. (Мысль С. Кара-Мурзы.) Пришвин запишет через год, 14 декабря 1918 г.: «Это небывалое обнажение дна социального моря. Сердце болит о царе, а глотка орет за комиссара».
21 сентября 1917 г.: «Этот русский бунт, не имея в сущности ничего общего с социал-демократией, носит все внешние черты ее и систему строительства».
То есть накануне «Октября» революция уже воспринималась либеральной интеллигенцией как русский бунт — явление стихийное и враждебное программе «Февраля». Эта симптоматика нам знакома и по совсем свежим событиям на Украине и по поведенческой модели нынешних российских квазилибералов. 10 октября Пришвин дописал: «Теперь всюду и все говорят о революции как о пропащем деле и не считают это даже революцией. — Неделю, — скажут, — была революция или так до похорон (то есть до похорон жертв революции 23 марта 1917 г. — С.М.), а потом это вовсе не революция».
Тяжело пеpеживая кpах либеральных иллюзий, Михаил Пpишвин со своих сословных позиций выpазил суть «Октябpя»: «горилла поднялась за правду». Но 31 октября писатель приводит в дневнике эпизод с трамвайным спором о Кеpенском и Ленине, дошедшим «до рычания», и кто-то призвал спорщиков: «Товарищи, мы православные!». Пришвин делает неожиданный, должно быть, для себя вывод: «в чистом виде появление гориллы (коммунистического строя — С.М.) происходит целиком из сложения товарищей и православных».
Параллельно и на фоне ужасающей действительности М. Пришвин столетие назад предсказывал, что рано или поздно возникнет «вторая природа», созданная руками человека. Об этом его поэма «Женьшень». Писатель утверждал, что уничтожив девственную природу, человек начнет сажать новые растения — чтобы просто выжить. «Наша родина начинает лысеть», — с тревогой писал Пришвин. Сегодня его ставят в один ряд с автором учения о ноосфере Вернадским, физиологом Ухтомским — мыслителями, обсуждавшими тему «человек — Земля» на глобальном уровне. У Пришвина много суждений о живой окружающей природе, но также и о природе и сущности человека, о русской жизни, о конкретных людях, об эпохе, об истории, свидетелем которой всегда является честный писатель.
К осени 1917 г. крестьянскими беспорядками был охвачен 91% уездов России! Для крестьян (и даже для помещиков) национализация земли стала единственным средством прекратить войны на меже при переделе земли явочным порядком. Из дневников Пришвина видно, что тотальная гражданская война началась в России именно летом 1917 г. — из-за нежелания Временного правительства решить земельную проблему. К лету 1918 г. она лишь разгорелась, обретя противостоящие идеологии. Россия просто, без боя и без выборов, отдала власть большевикам, биологическую закономерность — неосознаваемое в рациональных понятиях ощущение, что это – единственный путь к спасению в национальной катастрофе. Об этом чувстве в разных вариациях писал и Пришвин. Огромная тяга к миру, возникшая сразу после Февральской революции, вовсе не означала только стремления к выходу из империалистической войны — люди надеялись на мир в самой России, в ее «мире» (С. Кара-Мурза).
Дневники Пришвина читаются как актуальные, поскольку включают в себя вневременные русские константы. В этом жанре, на первый взгляд, нет новизны, ведь нам знакомы дневники, высказывания лучших русских умов, всегда бьющие в точку и суть общественных, личностных, духовных проблем. Однако читаешь Пришвина и открываешь не столько нового писателя, обновляющегося словно мир весной, сколько прозреваешь его откровения о нас самих, о нашей жизни, об эпохе, о вселенной.
7 ноября 1917 г. Пришвин записал в дневнике: «Основная ошибка демократии состоит в непонимании большевистского нашествия, которое они все еще считают делом Ленина и Троцкого и потому ищут с ними соглашения. Они не понимают, что “вожди” тут ни при чем, и нашествие это не социалистов, а первого авангарда армии за миром и хлебом, что это движение стихийное, и дело нужно иметь не с идеями, а со стихией, что это движение началось уже с первых дней революции и победа большевиков была уже тогда предопределена».
А это будет написано уже в страшном 1918-м: «В природе русской мне больше всего дороги разливы рек, в народе русском — его подъемы к общему делу».
Тогда хотелось, похоже, видеть светлое даже в том, что потом оборачивалось тьмой. Но, что интересно, правоты эта мысль не утратила. Заманчиво было бы уточнить: подъём к доброму общему делу. Но русская правда нам говорит и о многом другом.
Станислав МИНАКОВ (Украина), Камертон
Комментарии
Комментариев пока нет