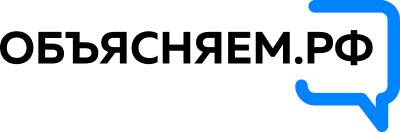Фёдор Конышев: Мертвому славы больше 16.03.2016 21:41
Фёдор Конышев: Мертвому славы больше 16.03.2016 21:41ГОД 1919. ХУТОР ИРУБАЙСКИЙ
1
Они собирались пойти ранним утром на реку вытаскивать поставленную накануне вечером сеть. Но из-за внезапно вспыхнувшей перед рассветом жаркой пальбы на правом берегу Урала им не хватило смелости выйти даже со двора. Тем более что постреливали и на их, бухарской, стороне. Пули частенько посвистывали над хутором. Лишь к концу дня Терентьев и Варвара выбрались из дому.
Старик Терентьев разделся догола и полез в уже начавшую остывать реку. Он заносил дальний конец сети к берегу, а Варвара оттуда длинным шестом била по воде, выгоняя из осоки предполагаемую рыбу в снасть. Вот Терентьев неожиданно остановился и стал напряжённо всматриваться куда-то вверх по течению.
— Ты чего, папаня?.. Увидал что?
— Да, увидал, — еле слышно ответил Терентьев... — Продолжить ему не дала крупная рыбина, сиганувшая в более густую осоку, отчего аж зашевелилась некоторая растительность. — Ушла, зараза.
Когда сеть была уже на берегу и отец с дочкой принялись высвобождать из ячеек рыбу, старик проговорил спокойно, показывая рукой:
— Что-то белеет там, под ветлами. Сбегала б поглядела. Шагов триста каких-нибудь, не дальше.
Варвара послушно встала и ходким шагом пошла. Вернулась с выражением ужаса на лице и полушёпотом сообщила:
— Да там... там человек...
— Человек? — Испуганно переспросил Терентьев.
— Ну да. В исподнем и босой.
— Живой?
— Не знаю. Лицо в запёкшейся крови, и рука. — Женщина только сейчас отняла свои руки от загорелых щёк.
— Молодой или старый?
— Не разглядела я, папаня, забоялась.
Терентьев задумался. Справившись с сетью, ему тоже захотелось взглянуть на человека. Шёл и думал: улов не ахти какой. Ясное дело, похолодало. Как-никак пятый день сентября заканчивается. Покрупнее что — на продажу пойдёт, остаток на уху. Казаки считай что всю годовалую живность на нужды войны забрали, а ночью красные из Лбищенска нагрянули, остатний окорок и початую буханку хлеба прихватили, чтоб на них холера... Хорошо ещё, что хоть полмешка муки да подсвинка догадался припрятать вовремя. Так что теперь одна надежда на рыбу да на картошку. Даже в степь с собой взять нечего...
— Вот тут... — показала Варвара и стала боязливо раздвигать ветви.
У раненого, видно, не хватил сил взобраться на низкий с этой стороны, но крутой берег, и он навалился грудью на суки и повис на них. Голова безвольно опущена, в воде виднелись голые ноги. На рубахе темнели пятна, наверно, от крови.
Закатав выше колен портки, Терентьев вновь полез в воду. До человека не дотронулся, спросил слегка дрожавшим голосом:
— Ты живой иль мёртвый?
Кроме тихого журчанья воды на середине, ничего другого он не услыхал. Тогда Терентьев за окровавленный подбородок приподнял его голову и с опаской стал рассматривать лицо.
— Молодой, и дышит ещё вроде... Ага, дышит чуть-чуть. На берег его надоть. Ну-ка, лезь пособи.
Дочка заткнула за пояс юбку и немедля спустилась в реку.
— Приподнимай-ка суки, висит на которых, а я попробую подлезть под него, — сказал Терентьев.
Физически Варвара была крепкой бабёнкой, привыкшей к тяжёлой работе, в руках же имела и вовсе мужскую силу. Не в покойную мать, в его, папаню, пошла.
Обломав под человеком ветви, Терентьев упёрся плечами в податливое тело и немного приподнялся.
— Чуть-чуть выше вот этот сук... Так. — Он обхватил шею и бедра человека, подался немного назад и потихоньку развернулся.
Она опустила суки и стала помогать нести полутруп, поддерживая его за ягодицу.
— Вылазь... Принимай за спину... Так, молодцом, — командовал отец, подбадривая дочку.
С большим трудом вынесли раненого на берег и с величайшей осторожностью уложили на высохшую траву. Мужчина оказался не такой уж и тяжёлый, лицо у него было мелковатое, остроносое, с усами. Левый рукав был почти весь тёмный. Нательная рубаха и кальсоны выше колен высохли на нем.
Отдышавшись, Варвара под кустам кое-как нарвала хилой травы, аккуратненько подложила под голову и заботливо смыла запёкшуюся кровь с лица.
— Должно быть, целый день висел, раз белье сухое, — предположила она.
— Ага, наверно, — согласился отец и задумался. — Кто он такой — вот загадка. — Не красный ли?
— Красный или белый — все одно спасать надоть, коли взялись, — решительно сказала Варвара.
Её отец воздержался от согласия, произнёс:
— Какой же сукин сын раздел его? Должно быть, одёжа была ладная, коль позарился. Знаешь что... Беги-ка ты домой, запряги Лысого — и сюда. А кто спросит, куда на ночь глядя, скажи, дескать, родителю на реке плохо сделалось. А?
Дочери не надо было повторять и распространяться о нужности задуманного им...
2
Дома они обнаружили у мужчины сквозную рану в предплечье. Ещё одну, прямую, продолговатую и неглубокую, — на голове. Промыли раны настоем лечебных трав, которыми по примеру матери дочь запаслась ранним летом в степи, и наложили повязки.
Они не долго думали над тем, за кого им выдавать своего нового жильца. Терентьев ещё на реке придумал легенду: вернулся с войны его зять, муж Варвары, три года о котором не было ни слуху ни духу. На хуторе его видали только единожды — когда тот приезжал на молодой на свадьбу. У его родителей она и осталась жить. Свёкор ещё перед октябрьским переворотом в Петрограде в числе пропавших без вести на фронте нашёл в газетке фамилию своего сына. После этого Варвара приехала на похороны матери и осталась жить у отца.
Она не стала возражать: воля папани — закон. Сами же до поры до времени будут держать язык за зубами. Благо, что той ночью, когда несли в постилке мужчину по огороду, кажется, их никто не узрел из соседей. Ну, а случись невыкрутка какая, скажут: так, дескать, и так, израненный весь, рука не работает — какая радость трезвонить про возвращение? Ещё не ведомо, выживет ли. Да и время такое...
Шила в мешке не утаишь. Весть о разгроме штаба дивизии красных во Лбищенске полетела по леовобережью Урала. Не миновала она и хутор Ирубайский. Одни восприняли известие равнодушно, другие — с радостью, третьи с унынием. Старик Терентьев заволновался: не большевика ли они прячут?
— Не дай Бог. Пропадём, коли дознаются.
— Ничего, папаня. Бог не выдаст, свинья не съест, — утешала его дочка, хотя и сама боялась этого.
А между тем раненый на седьмые сутки забредил, называл незнакомые фамилии, имена, кого-то к кому-то посылал, приказывал отходить в окопы... По несколько раз повторит одно и то же и умолкает. Отец с дочерью на целые дни оставляли его одного в запертой на замок избе, управляясь в степи с хлебами. Затем принялись за картошку.
По утрам и вечерами меняли солому, тряпье и простыню под ним, с ложки поили его чаями из настоев трав, молоком, кормили протёртыми супами. Сперва по три-четыре глотка, потом — все больше и больше... Когда приподнимали голову, глаза его открывались, они у него были серые, невидяще и настороженно глядели в одну точку. Варвара каждую ночь стирала его белье и сушила в избе.
Одна беда всегда тянет за собой в дом и другую. Больной ещё не пришёл в сознание, как у него появился жар. Смуглое от загара лицо вдруг запылало румянцем, начал бить кашель, на губе и возле ноздрей выступила сыпь. Человек опять стал бредить по ночам.
Привезённый за восемь фунтов муки и полмешка картошки станичный фельдшер признал крупозное воспаление лёгких и за дополнительную плату дал с десяток пакетиков порошка. Одновременно посоветовал незамедлительно наложить шину на предплечье.
3
Только на исходе четвертой недели мужчина встретил вечером Варвару осмысленным, проницательным взглядом и тихо, хрипло спросил, где он.
— У хороших людей, — устало улыбнулась ему молодая и с обычным крестьянским лицом женщина. — Не волнуйся, Ванечка, и спокойно выздоравливай. Мы тебя Иваном Матвеевичем нарекли, так и звать будем.
Она промолчала, что так звали её мужа. И не уверена была, что её поняли. Прежде всего, принялась ухаживать за ним, а скотина подождёт.
Дня через три он уже пожелал узнать подробности, как оказался тут, что за люди его приютили и за кого они — за Советы или за белых?
— Крестьяне мы. На нашем хуторе только трое казаков.
— А кто это — мы? — Больной попытался сесть, но его заводило, он застонал и, наверно от боли, зажмурил глаза.
Варвара испуганно ухватилась за его плечи и бережно опустила туловище на место. Подождав, видимо, покуда перестанет кружиться в голове, раненый слабым голосом повторил:
— Так кто ж вы?
— Мы?.. Папаня и я. — Трудно сказать, заметил ли он в её улыбке обозначившуюся женскую игривость. — Папаня и поведает тебе про все другое, а мне некогда. Извиняйте. Его зовут Аникеем. Аникей Никодимович.
— А тебя?
Она снова улыбнулась ему, на этот раз шире, назвалась, принесла маленький таз, заменявший утку, и вышла.
Раз мужик уже вошёл в здравый ум, решил Терентьев, значится, с ним вполне можно завести разговор. И выкроил время для этого, предупредив больного, чтоб тот лишь слушал его, не перебивал, а спрашивать будет потом, как окрепчает.
— Договорились?
— Валяй, Никодимыч.
Раненый узнал подробности, как попал сюда и какие у хозяина планы касательно его, покуда не поставят на ноги как след.
— А коли нету семьи и не будешь супротив, оставайся у нас насовсем. Вот так-то Иван Матвеевич.
Отцу с дочерью всё ещё непривычно и неприятно было называть именем бывшего близкого человека. Больной же по-прежнему относился к этому молчаливо и спокойно. Тогда же он вздохнул и проговорил с явной горечью:
— Жонки, считай, у меня нету. Покуда воевал, с другим спуталась, сука. Прогнал. А детей четверо — трое родных и один приёмыш, помершего от ран друга. Я им жалованье переправлял. А вот теперь на что будут жить — не знаю.
Терентьеву по душе пришёлся такой ответ.
— Даст Бог утихомирится — сюда привезёшь. Места в избе всем хватит, сам видишь. И присмотрены будут. Варвара, она у меня работящая и заботливая, а с детьми... не получилось у них детей. Ну, да ладно уж, — спохватился он. — Для первого разу хватит, и так, поди, уморил тебя.
— Благодарствую, Никодимыч. Обмозгую. А покуда суд да дело, побрил бы меня, может, а?
— А чего ж, можно и побрить. Вот отыщу свои причиндалы и завтра утречком и сделаем. — Сам же он уже лет тридцать пользовался лишь ножницами для подрезки своей седой метёлки.
— Что про войну слыхать? — спросил Иван Матвеевич.
— Сказывают, на той стороне она откатилась считай что до самого моря Каспийского, — ответил хозяин. — А на нашей — то красные, то белые. Незаметно уходят и приходят.
—А сейчас на хуторе чей верх?
— Атаманский.
—Стало быть, власть генерала Толстого?
— Черт их там ведает, кто у них там за правителя.
— А вам какая больше по нутру? — допытывался раненый.
— Какая с мужика три шкуры драть не будут и земли поболее даст...
Беседу прервал настойчивый стук соседа в окно. Терентьев нахлобучил овчинный треух и поспешно вышел. Вернулся разом с Варварой, доившей корову, и засуетился.
— Сосед сказал, завтра будут реквизировать зерно, муку и живность. Надоть припрятать что можно.
— Он знает про меня?
Терентьев открыл ему их главную тайну.
4
За ночь Терентьев и Варвара перетаскали добрую половину своего добра в бункер, устроенный загодя на склоне оврага и тщательно замаскированный. Нашли места в нем для подсвинка и суягной овцы.
Ещё затемно Варвара верхом на мерине спустилась к реке и по берегу поехала вверх, где верстах трёх от хутора стояла оголённая роща. Там переждёт эту самую... реквизицию, то, неровен час, и коня уведут. По берегу эти самые реквизиторы не поедут: побоятся красных на той стороне. Как и было уже, из глубины степи нахлынут. Очень ко времени и снежок посыпал, видимость вокруг сразу стала хуже.
Не напрасно Варвара волновалась за оставленную в хлеву корову и что не увела с собою. Из-за нее-то и возникла потасовка у отца с двумя солдатами из киргизов. Мало им было двух гусей и полмешка овса, так они и корову вывели.
— Не пущу со двора, и все там!
Один из киргизцев все норовил оттеснить его к калитке, но Терентьев ещё имел силу и не пускал того. И тут за спиной хозяина раздался окрик — вошли станичный урядник и хорунжий.
Урядник объяснил, что по распоряжению войскового атамана у бездетных семей крупный рогатый скот подлежит изъятию с последующим возмещением убытков.
— А чем же я это... раненого зятя кормить буду, а? — Петухом подскочил к нему разгорячённый Терентьев. — Он тоже супротив большевиков воевал, сотней в Оренбургской армии командовал!
Видно, ложь сработала, потому как хорунжий спросил фамилию зятя.
— Рекутов, Иван Матвеевич. Заберёте корову — своему сыну отобью телеграмму с жалобой. Он в охране самого генерала Толстого состоит. Прапорщик Терентьев. Может, это... ведаете даже? — Глядя на казачьего офицера, уже спокойнее проговорил старик.
О сыне он сказал правду.
— Подожди... Летом ты мне говорил, что твой зять пропал без вести.
— Слава Богу, объявился вот. Приятель его это... написал нам из Чалкара: так, дескать, и так, муж вашей дочки тут, в лазарете... Ну, мы это... и поехали. В дороге и встретили лазаретный обоз — переезжал куда-то. Нашли начальство, поставили магарыч. Нам и отдали его. Все одно безнадёжным считался. Халат сняли, а обмундировку искать некогда было.
Офицеры пожелали лично посмотреть на раненого и потребовали у него документы.
— Да он, ваши благородия, это... того... без понимания, — опередил Терентьев своего жильца, хотя тот, похоже, тоже не простофиля. — И без документов. Лазаретное начальство торопилось и никакой бумаги не выдало, а мы, дураки, не стали клянчить.
— Почему меня не поставили в известность? — рявкнул представитель власти.
— Да коли ж мне было-то... это заглянуть к вам. То — наши, то — большевики...
— Без документов не положено. Надо опять поехать в лазарет и потребовать их.
Хорунжий тем временем неотрывно, с интересом изучал лицо мужчины в постели.
— Пошли, — дёрнул его за рукав урядник.
— Минуточку, — нехотя отозвался тот. — Понимаете, господин урядник, где-то я видел этого человека. Уж очень он смахивает на командира... — не договорил военный и оглянулся на стоявшего позади их хозяина. — Принесите, любезный, свежей водички, пожалуйста.
Терентьев с откровенной неохотой, медленно пошёл на кухню и тут же вернулся.
— Перед вашим приходом я принёс два ведра, — извиняющимся тоном произнёс он. — Как лёд ещё.
— Вы слышали команду? — обернулся хорунжий... — Выполняйте.
Делать было нечего, придётся идти.
Когда закрылась дверь за хозяином, казацкий чин продолжил тихим голосом, глядя на раненого:
— Так вот. Очень он похож на командира дивизии красных Чапаева, штаб которой мы разгромили в начале сентября. Знаменитый комдив и этот человек — как две капли воды.
— А вы как его видели?
— Хе-хе... как... Некоторое время я служил в их школе младших командиров и той ночью опять вернулся к своим...
— Я слышал, его убили тогда.
— Одни говорят, что успели на подручных средствах переправить его на эту сторону, другие — что убили, когда плыл. Ходят и другие версии. А этот... больной — ну вылитый Чапаев. Я его три раза видел близко...
А у того, о ком они говорили, ни один мускул лица не дрогнул. Его глаза были неподвижными, моргали редко и не соскакивали с одной точки, будто и в самом деле Иван Матвеевич ничего не слышал, не говорил и никого не видел.
В это время откуда-то донёсся пулемётный стук. Видно, с той стороны заметили всадников на хуторе. Офицеры переглянулись и направились к выходу.
— А водички свежей, ваше благородие? — Встретился им у выхода из сеней Терентьев.
Хорунжий отмахнулся рукой. Урядник приостановился и пригрозил:
— Я с тобой разберусь, Терентьев.
Корову все-таки оставили.
5
В станице снова вывесили красный флаг. Терентьев сделался угрюм, в свободные минуты не находил себе места, передвигался, как неприкаянный, все выполнял через пень-колоду. Казалось, что его безвозвратно покинуло невосполнимо дорогое что-то, без чего утрачен смысл существования. На это обратил внимание Иван Матвеевич, на что Варвара невозмутимо ответила:
— С ним уже было такое после похорон мамы.
А человек, которого они продолжали выхаживать, напротив, становился все более оживлённым, у него росла тяга к разговору. Эту его жгучую потребность не могли утолить Терентьев и Варвара, хотя ей очень даже нравилось разговаривать с ним. К сожалению, у неё, бедной, не хватало времени для этого. А когда поздними вечерами она сидела за прялкой, либо вязала в его боковушке, что он весьма обожал, перебрасывались ничего не значащими фразами. В большой, общей, комнате был её папаня, и они его стеснялись. Он мало-помалу приходил в обычное состояние и опять садился за починку чего-то или за изготовление нового для дома. Но в их разговор не встревал. В отсутствии же его Варвара и Иван Матвеевич беседовали больше.
— Вы так смотрите за мной, так смотрите, а я все лежу и лежу, будто чурбан какой, — с открытой досадой говорил он. — Аж стыдоба берет, стыдоба за себя, перед Никодимычем, перед тобой, добрая Варюха. Другие на родных плюют, а ты заботу свою отдаёшь неведомому тебе человеку. И хозяйка ты, и доктор, и сестра милосердия, и санитарка разом. До последнего дыхания буду благодарить вас.
— Чего уж там... — не поднимая своих тёплых темно-синих глаз, говорила она. — Сама царица вон и царевны, сказывают, ухаживали за ранеными в лазаретах, а мне и сам Бог велел.
— А коли я... конокрад какой, а? Словили подбитого, вырвался, опять словили и этот раз раздетого в реку бросили... Что зараз скажешь?
— А то скажу: все равно человек.
После затянувшейся паузы Иван Матвеевич вздохнул протяжно и тяжело.
— Нет, добрая Варюха, никакой я не конокрад...
— А я сразу не поверила: вид не такой.
— Дело вовсе не в наружности. Вон какие красавцы есть, и ростом богатыри, а воруют не только коней — целые тонны денег и золота. Я не крал ни в молодости, ни теперь. И в реку меня никто не кидал, наоборот, помогли к воде спуститься. Только река была нашим спасением. И все из-за того, что получилось хуже некуда. Вокруг пальца меня обвели. Да этого — я их, а тогда — они меня. И знаешь, добрая Варюха, почему?.. Доверчивый я, будто щенок. И чересчур добрый к своим был. Поверил им, доверился, а у них, кто ближе ко мне состоял, в ту ночь черт отнял бдительность. Ну и проворонили, мать их... проспали. Интеллигенты! Классовая гниль. А вообще, во всем повинен я, конечно, потому как... Ах, да что там!.. Расстрелять меня мало...
Варвара даже перестала штопать носки, раскрыв рот, слушала. Иван Матвеевич снова страдальчески вздохнул, повернул голову к стене и на минуту умолк. Затем ослабевшим голосом добавил:
— Так-то вот, добрая Варюха. Все, нету больше духу.
Из всего услышанного она уразумела лишь одно: человеку надо было выговориться, вроде как исповедаться перед батюшкой. Хоть и непонятно изъясняется, намёками какими-то, утаивает что-то, но все равно ей нравилось, что изливает душу перед ней. И что Варюхой называет, как и муж.
В другой раз во время её ловкого манипулирования спицами у его ног, Иван Матвеевич чувствительно произнёс:
— Залежался я однако, ох и залежался. А телом-то был крепок, нутром — вынослив. Силушки имел хоть отбавляй. Из мужиков я, а лежу вот и лежу. Пуля в воде угодила как раз в старую на голове. Снаряд-то в одну воронку не падает, а пуля попала. Надо ж так, а! Плыл когда, ничегошеньки не почуял, только рука онемела. Её ещё на берегу прострелили, перевязать не поспели. Пловец-то я будь здоров! Родился-то на Волге-матушке. Ещё когда бродяжничал в молодости, об заклад побились с мошенником одним, что без отдыха на воде переплыву на тот берег, на ногах постою минуту — и обратно... Сто целковых у него выиграл, соображаешь!.. А через Урал когда плыл, глотну воздуха — и под воду, глотну воздуха — и под воду. До самого берега так, хоть и течение бурное. Не то каюк был бы мне, пули-то градом вокруг. Одна, окаянная, зацепила все ж... Все помню, а вот как на суки лёг и как вы меня выволокли — не помню.
— Верхнее ты снял, чтоб легче плыть было, да?
— Эх, Варя-Варюха... Коли б оно было так...
— А какая нужда заставила тебя броситься в воду?.. Ой, дура я дура, забыла, что тебе уже хватит говорить. — И поднялась, провела ладонью по юбке, распрямила её. — Сейчас чай будем пить.
6
Лишь к Рождеству Иван Матвеевич сам кое-как начал подниматься и сидеть на кровати с подушкой за спиной. В середине весны с помощью Терентьева первый раз вышел во двор. К этому времени в Прикаспии кончилась гражданская война. Но по ночам ещё слышались отдельные выстрелы и перестрелки. Рыскавшие по степи небольшие отряды белоказаков нападали на продотрядовцев, налетали на станции и хутора, убивали работников новой власти и комбедовцев. Из далёких краёв наведывались в приуральские селения и озверелые басмачи.
Раны у Ивана Матвеевича зажили, однако жаловался на головную боль. Его ни с того ни с сего начинало тошнить. Затянувшееся выздоровление угнетало его. После продолжительного молчания с трагическими вздохами больной кидался в истерику: ахал, ругался на свою беспомощность, зло бил кулаком по стене, требовательно просил отвезти его в какой-нибудь лазарет, ведь он же не абы кто, не шалтай-болтай... В лазарете он скажет о себе все, и его примут без направления и документов.
Ездили за фельдшером. Он заподозрил у больного одну из форм менингита. Попытки лекаря определить его на стационарное лечение оказались безуспешными: все больницы в Уральске и уездном центре были до невозможности переполнены.
Летом следующего года Ивану Матвеевичу заметно полегчало. Месяца через два он попросил Варвару раздобыть клочок бумаги, химический карандаш и купить на почте конверт.
— По детям душа ноет, написать попробую.
Отвозившая в станицу письмо Варвара была довольно тем, что на обратном адресе значилось её, мужнина, фамилия.
Ответ пришёл не скоро, в начале зимы. Из-под Самары писали, что раз отец детей погиб, их сперва сдали в детский приёмник, а оттуда — в приют.
— И не знают в какой. А меня считают убитым. Так-то, добрая Варюха. А мы возьмём да и махнём с тобой в Самару летом, а?
— Доживём — там видно будет.
На нём серый, с черными полосками, свитер, связанный Варварой. Подарила она ему и тёплые шерстяные носки, на которые он надевал ношеные галоши и подвязывал их. Он бодрился, но отрыжки прежней долгой хворобы нет-нет да и укладывали его в постель. К тому же за год четыре раза переболел воспалением лёгких.
Вспомнил свою давнюю профессию — плотничество, — и в перерывах между болезнями понемногу мастерил что-то соседям. Благо, у Терентьева нашлись простейшие инструменты. Может, удастся подзаработать денег на покупку достойной одежды и какую-то сумму сберечь на дорогу. Мог бы плотничать и активнее, коли б в этих местах в те годы дерево не ценилось на вес золота.
ГОД 1923. ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ИРУБАЙ
Болезненно, крайне тяжело возрождалась советская власть в краю бывших яицких казаков. Все же с каждым месяцем убавлялись её открытые враги, уменьшалось количество их наскоков на партийные и советские учреждения. Реже становились ночные убийства.
Иван Матвеевич решил: раз поспокойнело, хватит ему жить под чужой фамилией и на полулегальном положении. Настала пора открыться настежь. Тем более и состояние здоровья, наконец-то, дозволило ему сделать этот долгожданный шаг. В доме, в котором он жил четыре года, он на днях кой-что рассказал о себе.
Этот посёлок Ирубай, куда направлялся сейчас, он не однажды видел в бинокль с правого берега Урала. Не думал, не гадал, что войдёт в это селение челобитчиком.
Не обращая внимания на робко стоявших и сидевших в приёмной людей и на возмущённое «Нельзя, гражданин!», он смело отворил дверь и решительно прошагал к столу между двумя окнами. Хозяин кабинета недовольно глянул на него и промолчал. Когда жалобщик ушёл, вошедший к нему без разрешения представился:
— Я — Чапаев. Слыхали про такого?
Председатель волисполкома энергично и вроде как испуганно встал. Несколько мгновений он стоял с полуоткрытым ртом, часто хлопая глазами, будто спросонья. Растерянность с его молодого усталого лица сошла, и он достойным его положению голосом произнёс:
— Чапаев, говорите?
— Так точно. Чапаев, Василий Иванович, бывший командир двадцать пятой дивизии. — Интонация его голоса и несомненная уверенность в лице должны были отвергнуть даже малейшее сомнение в правильности ответа.
— Слыхал, слыхал, как же... — с едва заметной снисходительной улыбочкой сказал председатель, испытующе глядя на посетителя.
Чапаев был в косо сидящей чёрной кубанке, немного великоватым ему и не новом френче из английского сукна, темных галифе и яловых сапогах. Военная выправка, сухощавый, лет сорока, с лихими буроватыми усами и стремительными глазами — он и в самом деле здорово походил на легендарного начдива Чапаева, которого председатель видел на рисунках.
Голова волисполкома предложил ему сесть и сам сел. Лицо его стало задумчивым. Видимо, он ломал голову над тем, как продолжить разговор с явно ненормальным посетителем, хотя по наружности этого о нем нельзя было сказать так.
Отправляясь в волисполком, Василий Иванович разузнал, что председатель его лишь год назад демобилизовался из рядов Красной Армии. Говорили, он был каким-то политкомом, воевал с белоказаками на левой стороне реки Урал.
— Случаем, не в бригаде Попова был? — поинтересовался Чапаев, чтобы разрядить напряжённую обстановку.
— Тут не только это соединение двадцать пятой дивизии действовало, — уклонился от прямого ответа председатель, давая понять ему, что его сейчас интересует совсем другое. — Что вас привело к нам, товарищ... Чапаев?
— Мне нужны справка с места жительства, деньги на проезд в Москву и наган с патронами.
— Понятно, — медленно протянул председатель и пробарабанил пальцами по столу. — Насчёт денег и оружия обратитесь, пожалуйста, в уездный исполком, а по поводу справки... Одну минуточку.
Председатель вышел в приёмную, оставив дверь открытой, и спустя менее минуты вернулся.
— Сейчас мы сделаем некоторое уточнение, — сказал он.
Вошла молодая женщина с конторской книгой в руке и спросила у непонравившегося ей посетителя фамилию, имя и отчество, где он проживает. Получив ответ, она полистала книгу и, найдя нужное, показала своему начальнику. Тот прочитал:
— Рекутов Иван Матвеевич, одна тысяча восемьсот восемьдесят девятого года рождения...
— Стоп! — Это слово гражданин выкрикнул уже второй раз и с вытянутой рукой подался к председателю. — Да не Рекутов я, а Чапаев. Повторяю: Василий Иванович Чапаев, одна тыща восемьсот восемьдесят седьмого года рождения, проживаю в...
Женщина с улыбкой прервала его.
— Простите, гражданин хороший, эта запись сделана при двором обходе в двадцать первом году. Докажите, что...
Чапаев стремительно встал и в негодовании зашагал по кабинету, порывисто жестикулируя и эмоционально объясняя им, при каких обстоятельствах оказался в реке и как стал Рекутовым.
— Нам в ту ночь не до удостоверений и прочих документов было, понято вам иль нет? Я и мои штабисты в нижнем белье вступили в бой...
Их конфликт слушала незаметно проскользнувшая в кабинет девчушка с распахнутыми глазёнками. Она вдруг встала перед возмущавшемся человеком и с наивной убедительностью заявила ему:
— Про всамделишного Чапаева, дяденька, книга написана. Я плачу, когда читаю то место, где пишется, что «хищная пуля ударила Чапаева в голову». Моего папу — тоже...
— Какая книга? — не дал ей договорить Василий Иванович.
От его строгого взгляда девчонка смутилась и попятилась.
—Ты кто такая?
— Избачка я, избой-читальней... заведую, — растерянно пролепетала она и поспешно вышла. Спустя минуту вернулась с замусоленной книгой под мышкой. — Вот, Фурманов написал.
— Это какой же Фурманов? Который комиссаром ко мне был приставлен?
— Комиссаром был Клычков, Фёдор, — поправила его избачка.
— Врёшь, не было у меня такого комиссара!
— В книге так написано.
— А ну, дай-ка.
Девчушка прижала книгу к груди и отступила на шаг.
— На дом не выдаю, очередь на неё. Один экземпляр всего, — объяснила она и вопросительно глянула на председателя.
— Пускай полистает, — разрешил он.
— Хотя вы ужасно похожи на Чапаева, все равно только тут разрешу, — сказала избача и нерешительно протянула странному незнакомцу книгу.
Он сел на скамейку у окна, закинул ногу на ногу и принялся пробегать глазами страницы, иногда с вниманием задерживаясь на них. Потом внезапно произнёс негодующе, ни к кому конкретно из присутствующих не обращаясь:
— Почему он себя Клычковым назвал? Всех — правильно, а самого себя — выдуманной фамилией?
Ему никто не ответил, девчонка с улыбкой пожала плечами.
— А вообще, правду-матку режет, сукин сын...
Следом за секретарём исполкома с таинственным видом вышмыгнула избачка. Потом, сославшись на срочную необходимость отлучиться, кабинет покинул и председатель. Вместо них и незаметно для увлёкшегося чтением человека у дверей встал милиционер.
ГОД ТОТ ЖЕ. ХУТОР ИРУБАЙСКИЙ
Хотя председатель волисполкома и милиционер строго-настрого предупредили избачку и секретаря никому ни слова про не установленную личность, тем не менее, уже на третий день возле кирпичного дома старика Терентьева начали толпиться молодые люди. А подростки, нахалюги, те так и вертелись перед окнами, липли к стеклу. Даже с той стороны реки стали наведываться школьники. Привяжут лодки к деревьям — и бегом к избе, в которой живёт Чапай. Хоть ты собаку на них спускай, уже с год как обзавёлся ею Терентьев.
— Ну, пусть он выйдет, тётя Варвара, что им — жалко? — уговаривали хозяйку мальчишки и девчонки. — Мы только посмотрим на него и уйдём.
— Что он, артист какой, чтоб глазеть на него? Да и видели вы его не раз.
— Это местные видели, а мы — нет.
— А мы видели его как дядю Ваню, а он же, оказывается, — Чапаев, — выдвигали все новые аргументы ребята.
— Да никакой он н Чапаев. Выдумал все это.
— Он же сам так назвался. Он же лучше знает.
— Убили его — а он живой. Разве это неинтересно?
— Мало ли что он так назвался. Больной он, потому, — объясняла школьникам Варвара. — И дома его нету. Как ушёл вчерась в уезд, так и не возвернулся ещё. Идите, идите отсюдова, нечего вам тут глазами хлопать...
И каждый раз сетовала на себя: говорила ж ему перед уходом в волость: живи и помалкивай, кто ты и что ты. Так нет же! Хватит, дескать, за чужого человека жить, и все тут. «Чапаев я, а не замухрышка какая-нибудь там, понятно тебе, добрая Варюха...». Теперь вот от людей отбоя нету. И папане проходу не дают: расскажи им да расскажи про знаменитого Чапая.
— А ну вас! — отмахивался от них старик, будто от назойливых мух.
ГОД 1966. МОСКВА
Под обратным адресом на конверте значился некто Иванов Иван Васильевич. Под письмом же стояла другая фамилия — Чапаев Василий Иванович.
Прочитали бегло женщины, посмеялись над письмом и отложили в сторону — в архив его. Зачем отвлекать ответственных работников на чтение всякой ерунды. Блюхеры и Тухачевские уже объявлялись, теперь вот — Чапаев. Скоро, чего доброго, и Щорс подаст голос с того света.
Ничего сверх удивительного в том не было. В психушках многие представляются знаменитостями. Иванов-Чапаев из дома душевнобольных на Южном Урале писал, что он есть комдив 25-й дивизии Красной Армии не погиб в то трагическое для его соединения утро, как пишут про это, а остался живим... Он требует немедленного освобождения из дома психических больных, куда доставили его насильственно и незаконно.
Хотя после хрущёвской оттепели вновь наступили морозы, последствия её продолжали сказываться. На поверхность реальности всплывали все новые имена почивших знаменитостей. В конце концов Лубянке дали указание оградить Центральный Комитет партии от писем из подобных домов и больниц.
Надо полагать, соответствующие спецслужбы усилили бдительность, потому как после этого письма от разного рода «командующих», «философов» и «академиков» в центральные ведомства столицы Союза поступать перестали. И все же в 1966 году ещё одно письмо за подписью Чапаева каким-то образом преодолело проволочные заграждения упомянутого выше дома и вновь попало по назначению. Письмо адресовалось ХХIII съезду КПСС.
Его случайно прочитал человек, давно сомневавшийся в правильности проведения некоторых большевистских линий. В центральном партийном аппарате он занимал должность заведующего сектором и, понятное дело, держал своё мнение при себе. Кое-какие сообщавшиеся Ивановым-Чапаевым ранее не известные истории детали из боевого пути 25-й дивизии насторожили нестандартно мыслящего партработника. И он негласно, на свой страх и риск, взялся раскручивать заинтересовавшие его подробности. Чем черт не шутит...
В то время ещё жили и внешне бодрствовали многие соратники прославленного героя Гражданской войны. И вот встреча с одним из них — бывшим работником Академии Генерального штаба Вооружённых сил СССР Стефаном Фёдоровичем Данильченко.
— Прежде всего, предупреждаю вас, — произнёс с сухой официальностью завсектором Владимир Павлович, — что наш разговор будет носить строго конфиденциальный характер. И никаких записей.
— Понимаю.
— Так вот, Стефан Фёдорович. Вы были командиром Балашовского полка во 2-й Николаевской дивизии. Ею, как вам известно, командовал ею Чапаев Василий Иванович.
— Так точно, Владимир Павлович, — одновременно со словами кивнул своей массивной головой Данильченко.
— Хорошо. Это и архивные материалы подтверждают. Далее. Вы часто общались с ним и, разумеется, достаточно неплохо знали своего легендарного начдива...
— Прошу извинить... Я его ещё до этого знавал, — вставил Данильченко. — Наслышан был о нем во время его службы в Карпатах, а познакомились мы в октябре 1917 в Казани на военно-окружном съезде солдатских Советов. Василий Иванович был делегатом от Николаевского гарнизона Самарской губернии. На его груди висели три Георгиевских креста, медаль и большой красный бант. Он не дождался окончания работы съезда: отозвали срочно в Николаевск. Через полгода встретились и до его нелепой смерти воевали вместе против белоказачьих войск...
— Прекрасно, — вежливо оборвал разговорчивого собеседника Владимир Павлович. — Прочтите, пожалуйста, вот это письмо и прокомментируйте его.
Владимир Павлович смотрел, как по мерее чтения мрачнело лицо старого генерала. Ещё не дочитав до конца, Данильченко сморщился в тихом плаче и полез в карман за платком. Справившись с нахлынувшими эмоциями, проговорил:
— Простите, тяжко читать такое.
— Ничего, ничего... Я понимаю вас, Стефан Фёдорович. Где у вас... валерьянка?..
Но и после микстуры хозяин квартиры успокоился не сразу. Осилив, наконец, пространное письмо, он с минуту молча походил по комнате, опять сел и спустя какое-то время заговорил:
— Знаете, Владимир Павлович, у меня такое впечатление, будто все это действительно написано Василием Ивановичем Чапаевым. Судя по письму, он значительно пополнил свой словесный запас. Написано оно довольно грамотно. По всей вероятности, много читает. Видимо, и устная речь его изменилась и стала не такая уж простецкая, как была Тут есть такие детали, которые могли быть известны лишь ему, его порученцу Петру Исаеву и узкому кругу командиров из штаба дивизии.
— Ваше мнение о версии, что Чапаев не погиб в реке? — спросил Владимир Павлович, умолчавший о тайно проведённой важной экспертизе.
Он дал знакомому графологу фотокопии выдержек из последнего письма Иванова-Чапаева и резолюции на одном архивном документе тогдашнего настоящего Чапаева. В заключении сказано: на характеру начертания букв оба тексты написаны в разные времена и одной и той же рукой, последний — старческой.
Подумав, Данильченко сказал:
— Все могло быть и не так, как известно из официальных источников и написано в книге Фурманова о Чапаеве. Понимаете, мне пришлось купаться с ним в том же самом Урале. Все мы были поражены и восхищены его умением плавать без помощи рук и долго держаться под водой. Кстати говоря, некоторые из командиров, а также Пётр Исаев высказывали сомнение по поводу его гибели в воде. Он в ней — как рыба. Да. Был он и хитер на редкость, мог прекрасно притворяться. Это был, конечно, редчайший самородок. Мы с ним ещё в Карпатах против австрийцев воевали. Чапаев тогда служил в Белгорайском полку и слыл лучшим «охотником» в части за языками.
Данильченко, видимо, посчитал достаточным дальше рассказывать о далёком прошлом и умолк.
— Продолжайте, пожалуйста, это очень интересно и важно.
— Хорошо. Как-то вечером под Сновидовом австрийцы атаковали роту и ворвались в наши окопы. Завязалась рукопашная. Потери с нашей стороны были большие. Бойцы отошли на вторую позицию. Раненый фельдфебель Чапаев остался в окопе и прикинулся мёртвым. Ночью австрийцы обошли опустевшие окопы и недалеко от того места, где лежал Василий Иванович и ещё один тяжело раненый солдат, оставили трёх наблюдателей с телефоном. Дождавшись удобного момента, Чапаев подполз к дремавшим наблюдателям, одного оглушил ударом приклада, а двух обезоружил и приказал им нести нашего раненого солдата в сторону отступления его роты...
— Удивительный факт! А вы не хотели рассказывать.
— Ничего не стоило ему обмануть противника и на воде. — Старый генерал помолчал немного. — Так что все могло быть. И стиль письма уж очень напоминает его характер и манеру говорить: простые обиходные выражения, резкость и категоричность суждений, меткие оценки подчинённых... Все так неожиданно, волнительно и... по-моему, правильно.
Владимир Павлович начал читать выдержку из романа Фурманова:
— «Четверо ближе стоявших, поддерживая бережно окровавленную руку, сводили Чапаева тихо вниз по песчаному срыву. Вот кинулись все четверо, поплыли. Двоих убило в тот же миг, лишь только коснулись воды. Плыли двое, уже были у самого берега — и в этот момент хищная пуля ударила Чапаева в голову. Когда спутник, уползший в осоку, оглянулся, — позади не было никого: Чапаев потонул в волнах Урала...» Раньше я не задумывался над этими строками, принимал их за истину, а теперь...
Задумчиво утопивший мягкий подбородок в свою широкую ладонь, Данильченко, как и его собеседник, глубоко молчал. Затем поднял свою крупную голову, ткнул в неё пальцем и подхватил его мысль:
— А теперь и у меня она пошла кругом. Кто видел, как голова Василия Ивановича уходила под воду? Уползший в осоку?.. Этот человек мог оглянуться как раз в тот момент, когда Чапаев нарочно нырнул, чтобы сбить с толку стрелявших. Набрал воздуха и нырнул.
— Разумеется. Надо иметь в виду, что Фурманов написал художественное произведение. Вполне возможно, что уползший в осоку человек — это вымысел автора. — заметил Владимир Павлович. — У Фурманова помогали Чапаеву спускаться с обрыва четверо. Все четверо кинулись и поплыли. Если их четверо, значит, вместе с Чапаевым их было пятеро. Где пятый? Раньше их бросился в воду или остался на берегу?.. Впрочем, эта деталь не так уж и важна. Вот, прочтите, пожалуйста, этот отрывочек ещё раз.
Данильченко не раз и не два читал эту книгу, к некоторым её эпизодам возвращался довольно часто. Надел очки и стал читать. По-видимому, как и Владимир Павлович, он до сего дня не задумывался над логикой повествования в этом отрывке.
— Да, концы с концами не сходятся.
— Куда важнее другое. В письме названы фамилии людей, бывших рядом с ним на берегу, в том числе трое, которые свели Чапаева вниз. Вы кого-нибудь знали из них?
— Ну а как же. Работника оперативной части штаба дивизии Швецова, помощника командира дивизии по административной части Долгушева и начальника канцелярии Белова.
— Они переплыли?
— Мне это не известно. Да и вновь созданный штаб дивизии не располагал тогда данными, кому из окружённых во Лбищенске удалось спастись. Откровенно говоря, и не до этого было, сами понимаете. Надо было поскорее покончить с белоказачьими войсками.
Потом беседовавшие вернулись ко времени, когда Иванов-Чапаев жил под фамилией Рекутова. Владимир Павлович зачитал выдержку из его письма:
— «Как только я с горем пополам мог писать, я считай каждую неделю месяца два подряд отдавал дочке хозяина по письму, чтоб снесла на почту в Ирубай. Написал в Реввоенсоветы СССР и Киргизской АССР, потому как Казахской республики в то время ещё не было. Писал в Совнаркомы, в Уральск, в Самару и ещё много куда. Хотел разыскать сослуживцев по дивизии, М.В. Фрунзе, кто хорошо помнил меня в лицо... Ни ответа, ни привета. Как об стенку горох! Тогда и пошёл по тамошним властям. Не след мне было идти в уездный центр. Разве конторщикам и разным прочим бюрократом докажешь, что ты не верблюд? На последней инстанции на глазах самого большого партийного чиновника я на мелкие клочки изорвал волисполкомовскую справку на имя Рекутова. И дурак. Надо было плюнуть на всех и с этой самой справкой в кармане зайцем отправиться в путь-дорогу. А меня заточили в каталажку, под стражей привели на какую-то дурацкую медкомиссию, и вот я тут...»
Владимир Павлович спросил, какие мысли вызвали у Стефана Фёдоровича эта выдержка из письма.
— Знаете, никак не могу собраться...
— По-моему, Варвара его письма дальше печи не несла. Один близкий мне по духу человек из партаппарата Казахстана недавно побывал в Ирубае. Хутор Ирубайский сросся с этим городским посёлком. Кроме Рекутовой Варвары Аникеевны, он никого больше отыскать не успел. А эта одинокая старая женщина считает Ивана Матвеевича, то есть Чапаева, будем говорить, и до сих пор оплакивает, что его не стало. Её отец был человеком прижимистым. у него на хуторе всегда должники были. Денег, если б захотел, найти мог на дорогу Чапаеву. В ночь, когда Чапаев не пришёл домой, к ним вломились двое бородатых людей, один из них бывший урядник. Вместо Чапаева они связали и увезли в степь её отца, Терентьева. А Варваре пригрозили: если не хочет того же, пусть краском Чапаев придёт на пятый километр дороги на Чалкар. Спустя трое или четверо суток бандиты привезли труп Терентьева, перебросили во двор и ускакали...
После тяжёлого молчания Данильченко возмутился
— Не могу понять одного: как могли нормального человека упечь в сумасшедший дом?!
Собеседник вздохнул:
—К сожалению, могли, Стефан Фёдорович. К тому времени уже всем было известно, что комдив Чапаев погиб. И вдруг находится человек, объявивший себя тем же Чапаевым... Если бы ещё сразу после трагедии со штабом хозяин или его дочь сообщили бы нашим военным или руководству волисполкома обо всем — другое дело. Но у Терентьева, как можно было понять, были иные интересы по поводу их жильца. На вопрос, носила Варвара Аникеевна его письма на почту или бросала в печь, она промолчала. А потом заключение медицинской комиссии... Ведь члены её тоже наверняка знали о гибели Чапаева, и вот тебе пожалуйста: он предстал перед ними...
Перегруженный на редкость необычной и тревожащей его информацией, Данильченко сидел с опущенной головой и напряжённо думал. Он приподнял голову и хрипловатым от волнения голосом проговорил:
— Извините, Владимир Павлович, я снова о том же... Как явствует из письма, Рекутов-Чапаев в уездном комитете партии и исполкоме по фамилиям и именам назвал всех ответственных работников своего бывшего штаба, политотдела, комбригов, даже некоторых командиров полков и кое-кого из комиссаров. После ликвидации Уральского фронта некоторые из них остались работать в одноименной губернии. Например, на руководящих должностях в ревкоме, потом в губкоме партии находился в Уральске комиссар нашего полка Самсонов. Его имя было хорошо известно там. Неужели никому в голову не пришло снять трубку и позвонить ему?
— Возможно, и звонили в отсутствие Рекутова-Чапаева. Но если всем известно, что этот факт есть истина — зачем проверять его? Можно уяснить себе и другое. Ведь в руки белоказаков попала вся документация штаба дивизии. Мог, скажем, какой-нибудь ловкач, Лжечапаев, имея на руках списки начальствующих людей соединения, запомнить их наизусть и козырять фамилиями?
— Вполне. Были Лжедмитрии, мог, конечно, объявиться и Лжечапаев.
— Тот-то и оно, — с укором кивнул головой с большими залысинами Владимир Павлович.
— Да-а... — выдохнул Данильченко, словно бы подводя итог их беседы.
Не хотелось оставлять на ночь старого человека одного в квартире с уверенностью, что письмо написал настоящий Чапаев. Больному человеку эта потрясающая новость могла нанести тяжёлую и трудно предсказуемую по последствиям душевную травму. Если не нанесла уже. Сколько их было уже у него! Одних боевых друзей схоронил, других — признали врагами народа и расстреляли, третьих — гноили в лагерях... Не следовало с бухты-барахты давать ему письмо. Жена на даче, дети живут далеко...
— Так что принимать письмо Иванова за истину у нас пока серьёзных оснований, думается, нет, — сказал Владимир Павлович с намерением сгладить обстановку. — Тем не менее я не намерен спускать это дело на тормозах. Очень сожалею, что по состоянию здоровья вы не сможете съездить на Южный Урал.
— Не огорчайтесь, — успокоил его Данильченко, — в Москве много чапаевцев, они с успехом заменят меня.
— Спасибо, Стефан Фёдорович. Но... понимаете... не хотелось бы к этому секрету подключать других людей. Надо что-нибудь другое придумать
Данильченко накапал в рюмку микстуры, добавил воды и выпил. Для гостя он приготовил кофе. Подождав, пока тот выпит его, хозяин квартиры сказал:
— А если так?.. Попросить их выявить и взять на учет тамошних чапаевцев. Я настойчиво буду советовать некоего Иванова. Мол, человек заявляет, что служил в Чапаевской дивизии, но соответствующего документа не имеет. Ничего, что он находится в таком лечебном учреждении. Человек — везде человек. От его дочери из Уральска, мол, письмо с такой просьбой нам поступило. Подойдёт такая версия?
После некоторого молчания Владимир Павлович согласился:
— Разве что так, хотя насчёт письма дочери надо подумать. Подберите не более двух человек — самых надёжных. А я договорюсь с Красным Крестом по поводу командировок. И последнее. Вы не будете возражать, если я заночую у вас.
— Очень хорошо. Тогда я похлопочу об ужине.
ГОД ТОТ ЖЕ. МОСКВА — ЮЖНЫЙ УРАЛ — МОСКВА
На Южный Урал ездили чапаевцы: в прошлом командир артдивизиона 25-й дивизии Н.М. Хлебников и адъютант из другого артиллерийского дивизиона той же дивизии А.В. Беляков. Оба известные и заслуженные люди.
Встреча с ними происходила на квартире Данильченко. И, конечно же, без его жены.
— Мы вас, товарищи, сейчас так удивим, так поразим, что от неожиданности у вас дыхание перехватит! — Интригующе начал Хлебников, взгляд у которого был необыкновенно восторженный. — Знаете кого мы «подняли» со дна Урала?
— Надеемся сейчас узнать, — намеренно равнодушно произнёс Владимир Павлович, с удовлетворением отметив про себя, что, судя по их искреннему поведению посланцев, действовали они согласно их с Данильченко задумке.
— По поводу такой важной и сногсшибательной новости можно и... — Хлебников многозначительно взглянул на Белякова. — Действуй, Александр Васильевич.
Беляков извлёк из портфеля бутылку «Арарата», лимоны и другие деликатесы. Быстро, по-мужски, накрыли стол, и Хлебников раскрыл блокнот.
— Докладываю, Стефан Фёдорович: полку ветеранов-чапаевцев прибыло восемь человек из трёх областей Южного Урала. Далее. А далее — самое, самое... Наливай, Александр Васильевич.
— Мы же договорились, Николай Михайлович — без эмоций, — с наигранной укоризной сказал тот.
— Хорошо, хорошо. — Хлебников сделался торжественно серьёзным. — Прошу стать... Итак, дороги товарищи, из замутнённой реки истории на её зыбкую поверхность мы извлекли живого... — Голос оратора дрогнул...
У Владимира Павловича от волнения по телу заходила мелкая дрожь. Хотя он и прекрасно догадывался, что сейчас будет сообщено.
— ...мы извлекли живого Василия Ивановича Чапаева! — Хлебников подождал немного. — Да, да, товарищи, он жив! Выпьем за нашего воскресшего прославленного командира и любимого народом Героя гражданской войны... А теперь — о главном по порядку.
Хлебников не стал расписывать впечатления от посещения далёкой провинции и рассказал о неожиданных сложностях, с какими они добивались у тамошних властей разрешения побывать в закрытом лечебном учреждении, именуемом в народе психушкой. Посланцы неофициальной Москвы оказались более бдительными, чем направивший их на Южный Урал Стефан Фёдорович Данильченко. Положительные эмоции у Хлебникова сменились отрицательными.
— Такая болотная тина, такие трудно пробиваемые бюрократические преграды кругом!.. — Хлебников непонимающе развёл руками и косо глянул на Владимира Павловича, которого хозяин квартиры представил медэкспертом и хорошим другом его семьи.
— Не остерегайтесь его, продолжайте и будьте предельно откровенны. Он в курсе...
— Да, так вот. С какой целью мы намерены посетить это лечебное учреждение, с кем из больных намерены беседовать и о чем, и так далее и тому подобное. Уму непостижимо! Скажи мы, что желаем встретиться с якобы в прошлом сослуживцем — нас на пушечный выстрел не подпустили бы к тому дому в лесу. И так дело дошло аж до первого секретаря обкома партии.
Хозяин области попробовал решить этот вопрос через своего помощника и не решил, сказал с явно подпорченным настроением:
— А вообще-то говоря, нечего там делать Красному Кресту. Съездим-ка мы лучше на рыбалку на ночь. Прекрасно отдохнёте, уверяю вас.
— Благодарим вас, весьма признательны за приглашение, но, понимаете, — пошёл на рискованную хитрость Хлебников, — у меня сложилось впечатление перед отъездом в ваши края, что Красный Крест совместно с Минздравом готовят для верхов обобщающую бумагу о состоянии этих учреждений, потому что и в другие области и республики вроде бы посланы люди.
Только лишь после этого первый снял трубку и сам позвонил кому-то. Закончив говорить в трубку, по-хозяйски откинулся на высокую мягкую спинку и сдержанно улыбнулся.
— Вы там такого наслушаетесь, что волосы дыбом встанут. Недавно с трудом угомонили одного. Представляете, называл себя сыном... Сталина. Мол, с помощью английской разведки бежал из фашистского плена, с огромным риском для жизни перебрался в Москву, хотел съездить на родину отца, но по дороге его перехватили...
Посланцы Москвы для приличия и видимости познакомились с учреждением для психически больных, получили информацию о методах их лечения и способах содержания, отведали в пищеблок еду и заглянули в некоторые палаты. Главный врач шёпотом сообщил в коридоре:
— Есть у нас и свои люксы. Да, да. Так мы называем одноместные палаты. В них размещены... извините, выдающиеся. В этой, например, живёт Плеханов, дальше — Блюхер. И Чапаев есть. А в женской половине даже дочь Николая II Анастасия Романова проживает.
— А сын Сталина где?
— Увезли куда-то недавно.
«Проверяющие» заглянули в многоместные палаты, в «люксах» разговаривали с некоторыми «выдающимися» личностями. В палате Иванова, возомнившего себя Чапаевым, они задержались куда дольше, чем в иных. Присутствовал лечащий врач и у дверей стоял верзил, от которого противно несло чем-то похожим на силос.
— Фамилию Иванов ему дали ещё в уездной милиции, — уже не волнительным голосом продолжал Хлебников. — По манере разговаривать, жестикулировать, наконец, по внешнему виду в этом 79-летнем человеке явно угадывался Василий Иванович Чапаев. А когда он назвал по имени брошенную после возвращения с австрийского фронта жену за измену ему, родных детей и приёмного сына, своего старшего брата, у нас не оставалось сомнения, что это — Чапаев.
Далее Хлебников рассказал:
— Несмотря на такой его возраст и изолированную от большого мира жизнь, он сохранил ясность суждений и вполне здравый взгляд на действительность. Хотя стал не таким порывистом в движениях, однако по-прежнему резок в оценке негативного и категоричен в том, в чем убеждён. Перечитал все книги и брошюры о мировых войнах на территории нашего Союза, какие нашлись в их небольшой библиотеке. К слову сказать, — подчеркнул Хлебников, — о гражданской войне рассуждает как мыслящий специалист.
— Память у него не по годам цепкая. Почти не тронута годами. Помнит не только всех начальников родов войск, командиров бригад, частей и отдельных подразделений 25-й дивизии, но и соседей по продвижению до Лбищенска. Хорошо помнит, какие были справа и слева, какие после взятия Уральска должны были выдвинуться вперёд... Ну, и как взаимодействовали, где, кто и какие допустил ошибки и промашки. Словом, человек говорил не по прочитанному — это нам сразу стало ясно, — заключил Хлебников.
— И врач во время вашего разговора с... Ивановым присутствовал? — спросил Владимир Павлович.
— Минут пять-шесть посидел, сослался на занятость и вышел. Немного погодя и верзила юркнул за дверь. С Ивановым, а по нашему убеждению — Чапаевым мы провели в общей сложности где-то... часов пять — пять с половиной. Так, Александр Васильевич?
— Если быть точным, — отозвался Беляков, — то шесть часов и десять минут. За три посещения. Мы разговаривали также и с другими больными, которые выдают себя за известных особ. Для отвода глаз, разумеется, чтобы не вызвать подозрения. А разговаривали мы с ним не только в его крошечной палате.
— Ну а те — Блюхеры, Тухачевские и прочие как? — Поинтересовался Данильченко.
— Сразу видно, больные люди, — ответил Беляков. — Одни все время прячутся от кого-то, другие — целыми днями разговаривают сами с собой, третьи — не дают никому покоя со своими бредовыми идеями... Василия Ивановича даже сравнивать с ними нельзя. Он не объявлял во всеуслышание, что он — Чапаев. И что он не Иванов знают лишь два врача — лечащий и главный. Кстати, его ещё перед Отечественной войной собирались выписать, но куратор из НКВД категорически воспротивился. И ему пригрозил: ещё раз напишешь куда — заживо сгноим или расстреляем к черту. Возможно, ему и повезло, — заметил Хлебников, — ибо на воле в сталинские времена с ним так и поступили бы, несомненно.
Тягостная минутная тишина.
— Скажите, пожалуйста, вы раскрылись перед ним? — задал вопрос Владимир Павлович.
— Получилось как-то непроизвольно, — объяснил Хлебников. — Ещё во время первой встречи, когда речь зашла о его прошлом, он задерживал на мне пристальный взгляд с уже старческим блеском. Чувствовалось, ломает голову над чем-то. Как мы только второй раз появились в дверях, он вскочил с места и радостно воскликнул, указывая на меня: «Вспомнил! Вы — Хлебников, начальник артиллерии дивизии!»...
И они, словно родные и любящие друг друга братья, обнялись и не стыдились своих слез. Хлебников кивнул на своего напарника:
—А его помните?
Иванов-Чапаев нахмуренным взглядом окинул того, как будто минуту назад его не было тут вовсе, и мотнул посидевшей головой.
Хлебников напомнил его фамилию. Но и это не помогло, хотя сказал, что такую фамилию до войны часто в газетах читал.
— Тот Беляков разом с Чкаловым через Северный полюс в Америку летал.
— А я и есть тот самый Беляков, — улыбнулся ему Александр Васильевич. — А с весны 1919 года я у Дейниченко был.
— Дейниченку... Прокопа оч-чень помню, и сейчас перед глазами стоит. Пушкарь был ещё тот! А ты как из артиллерии в авиацию переметнулся?
— Молодость, Василий Иванович, она высоту любит. Мне и теперь дико хочется летать
— А вот летаю, — сказал Чапаев и засмеялся. — С высоченного дерева, с крыши, с высокого крутого берега, вроде Лбищенского, спрыгнешь, машешь руками и летишь. Хорошо-о так!.. По мне стреляют, палят со всего оружия и казаки внизу гонятся, а я себе хоть бы что — лечу, и все там. А вниз все же тянет и тянет, и казара вот нагоняет уже, я шашкой отбиваюсь... Проснёшься и думаешь: а как дальше-то было б, а?
Посмеялись. Беседа пошла живее, раскованно. Вдруг Иванов-Чапаев шлёпнул ладонями себя по бёдрам и прервал Белякова:
— Постой, постой, это не ты с коноводами батарею отбил у казары под Сахарной?
Казарами чапаевцы называли белоказаков.
— Какая там батарея! — усмехнулся Беляков. — Две шестидюймовые гаубицы. Связи не было, так я где перебежками, где ползком — на позицию батареи. А там — трупы наших и вокруг казара хозяйничает, наши упряжки с передками у них. Пополз назад и в высокой траве стал искать живых... С тремя ездовыми из обоза и двумя коноводами подполз поближе к орудиям и поднял в атаку. Ни возившиеся с лафетами артиллеристы, ни оставленные для охраны трое казаков даже ружья с себя снять не поспели.
«Больной» слушал его с затаённым дыханием, как любящи рассказы про войну подросток. Одет он был в больничную робу. Свою одежду, в какой привезли его сюда, износил ещё до войны на плотничьих работах. Кинул вопрос: нашли его по письмам, которые он направлял в ЦК партии иль ещё как?
В разговор снова вступил Хлебников:
— Мы узнали о вашем, Василий Иванович, местонахождении от Данильченко. А вот Стефан Фёдорович от кого — нам это не известно. Иванов-Чапаев искренне обрадовался, услышав твою фамилию, и мы заговорили о тебе. — Хлебников положил свой взгляд на Данильченко. — Василий Иванович сказал, что полки Данильченко Стефана и Кутякова Ивана были его главными ударными силами. И вспомнил одну деталь, когда ты его чуть не подвёл.
— Любопытно, когда ж это было? — Заинтересовался Данильченко.
— Когда дивизию окружили в трёх деревнях, которые назывались Покровками. Под посёлком Таловый... Ну вот. Днём Василий Иванович обратил внимание на надтреснутую подпругу в твоём седле. Ты пообещал срочно отнести седло к шорнику и беспрерывных хлопотах забыл о нем. Ранним утром после артогня ты повёл на прорыв два эскадрона. Кольцо окружения было разорвано, и твои кавалеристы продолжали развивать успех. При штурме Харитоновки подпруга под тобой лопнула, вторая подпруга седла не удержала, и ты вместе с ним упал с коня. В цепи наступающих тебя посчитали убитым, произошла заминка, и атака могла захлебнуться, если бы к этому моменту не подоспел к главной штурмовой группе сам начдив. «С нами Чапаев! С нами Чапаев!..» — понеслось по цепи, и Харитоновка была взята.
Данильченко улыбнулся:
— Ты смотри, запомнил, а! Да, случай пустяшный, а мог дорого обойтись дивизии.
Ни в одном печатном источнике библиотеки Василий Иванович ничего существенного не нашёл о том, как обстояли дела в дивизии после трагического утра 5 сентября 1919 года во Лбищенске, — продолжал Хлебников. — Мы сказали ему, что назавтра это соединение возглавил Иван Кутяков...
— Простите, что прерываю вас, Николай Михайлович, — произнёс Владимир Павлович, — а разве роман Фурманова он не читал... там?
— К сожалению, в библиотеке его нет.
— Благодарю вас. Продолжайте, пожалуйста.
— Василий Иванович — я ни на йоту не сомневаюсь, что это именно он — пожелал узнать о Кутякове побольше. Мы поведали ему, что после окончания гражданской войны он боролся с басмачеством в Хорезмской республике, награждён орденом Красного Знамени, и в тридцатых годах был заместителем командующего войсками Приволжского военного округа. Мы скрыли от него, что Кутяков был репрессирован и в 1938 году расстрелян. Сказали, умер.
Василий Иванович аж возмутился: человеку было сорок лет, и вылечить не могли! В Отечественную войну он наверняка крупным армейским соединением командовал бы. «А у Данильченко как все сложилось потом?» — спросил.
— Мы рассказали. Гражданскую окончил комбригом, учился в военной академии, работал на штабных должностях в Белоруссии и в других местах, закончил Академию Генштаба, готовил там командные кадры и в звании генерал-майора ушёл в отставку. А орденов у него за войну с фашистской Германией и за разгром японских самураев — трудно пересчитать. Одного Красного Знамени аж четыре. «А здоровье как?» Ответили, что поскрипывает, но без дела не сидит.
Стефан Фёдорович Данильченко довольно ухмылялся.
— И, конечно же, о своих детях не забыл. Слышали мы что о них, где и как живут... И слезу пустил. К сожалению, обо всех у нас сведений не было, об одном из сыновей — Александре Васильевиче рассказали. Я сообщил ему, — сказал Хлебников, — Александр Васильевич Чапаев достойно продолжил боевые дела своего знаменитого отца в годы последней войны. В оборонительных боях 1941 года недалеко от Витебска капитан Чапаев умело командовал артиллерийским дивизионом. С приданной ему ротой пехоты и шестью лёгкими и тяжёлыми танками дивизион двадцать часов подряд сдерживал сильный напор целой моторизованной дивизии противника и истребил половину её танков. Поставленная перед дивизионом задача была успешно выполнена, что дало возможность ввести в действие части вновь прибывшей нашей дивизии...
По мелковатому и уже усыхающему лицу Василия Ивановича катились слезинки, и сникший вдруг, он полез в карман куртки за платком. Бывшие сослуживцы прекрасно поняли его состояние и помолчали с минуту. И когда Василий Иванович успокоил свои чувства и спросил, жив ли остался его Сашко, ему сообщили:
— Он вырос до командующего бригадой. Его соединение принимало активное участие в разгроме Восточно-прусской группировки немецких войск. После войны окончил военную академию и сейчас в звании генерал-майора артиллерии руководит боевой подготовкой ракетных частей в одном из военных округов.
«Увидеться б ещЁ и с детьми — можно было бы и... Хотя страшно не хочется умирать под чужой фамилией...»
Москвичи чуть ли не клятвенно пообещали ему найти его детей и вместе с ними сделать все возможное, чтобы вернуть ему его имя и вызволить из неволи...
С очередным вопросом к ним обратился Владимир Павлович:
— Скажите, пожалуйста, какие-либо отклонения в психике вы заметили у него?
— Вообще-то временами что-то такое... проявлялось, — ответил Хлебников. — Обстановка все-таки, общение с ненормальными людьми... сами понимаете. Когда я назвал полные генеральские звания Александра Васильевича Белякова и своё, сказал, что в войну я командовал артиллерией Калининского и 1-го Прибалтийского фронтов, а Беляков на командных должностях служил в авиации и оба мы Герои Советского Союза, Василий Иванович неожиданно вскочил с кровати и отдал нам честь без головного убора. И вполне серьёзно. Нам видеть это было больно.
Помолчавший с минуту Владимир Павлович спросил, какой у него диагноз.
Хлебников раскрыл блокнот.
— Бред величия как симптом шизофрении. А что, Стефан Фёдорович, в ЦК есть письма от него?
— Не могу знать, товарищи.
— Как же тогда его адрес у тебя оказался?.. Что-то скрываешь от нас, — улыбнулся Хлебников и перевёл надеющийся взгляд на Владимира Павловича.
— Это, товарищи, не существенно. Давайте лучше подумаем, как нам действовать дальше, — заметил Данильченко.
— Да, чуть не забыл. Он дал адрес одной санитарки, которой доверяет. Через неё нам можно будет вести переписку с ним. Писать ему на имя Рекутова.
Разговор закончился ночью просьбой Данильченко к Хлебникову и Белякову изложить на бумаге все, что сказали и что по забывчивости пропустили. И ещё раз напомнил: до поры до времени решительно никому ни слова.
ГОД 1967. МОСКВА, ПЛОЩАДЬ НОГИНА
1
Папка номер 25, в которой хранились материалы об Иванове-Чапаеве, ни на минуту не выходила из головы Владимира Павловича. По мере поступления новых данных об этом человеке росло и волнение. Ясно, что теперь, когда о нем и его письмах знают уже многие, дальше таить от начальства это дело, пожалуй, бессмысленно и опасно. Как-никак интересуемому субъекту перевалило за восемьдесят. И он, Владимир Павлович, идет по перекидному мостику из двух зыбких жердин над пропастью с большим неразрешённым грузом на плечах, и каждую минуту можно... Падение может произойти тогда, когда обо всем этом первым узнает кто-то из большого начальства.
Но и докладывать вроде бы рановато ещё: нет официального заключения специалистов. Профессора Герасимова подключить бы. Этот известнейший в мире антрополог по скелетным останкам восстановил внешность Ивана Грозного, а уж по живому образцу определить личность — для него сущий пустяк. Без вмешательства же заведующего отделом, да и то смотря какого, профессор и разговаривать не станет с заведующим сектором. Так что хочешь или не хочешь, а придётся дело об Иванове-Чапаеве пускать по инстанции.
Даже если и свалится в пропасть — груз не взорвётся. А вот если же донесёт до последней точки, груз либо тихонько снимут и от тебя буквально все демонстративно отвернутся, либо он взорвётся, и грохот разнесётся по всему огромному Союзу с отголосками по миру. Или пан, или пропал, но ходу назад делать не буду.
С такими рассуждениями Владимир Павлович готовился идти к заместителю заведующего отделом, которому непосредственно подчинялся его сектор. Тут, в главном партийном аппарате страны, все делалось строго по ранжиру. Не дай Бог переступить через иерархическую ступень подчинения, нарушить субординацию!..
Доложив заму о том, как идёт подготовка планового вопроса для обсуждения в отделе, Владимир Павлович извинился и сообщил ему об Иванове-Чапаеве. Сообщил и сам не поверил себе, что говорил: словно случилось это во сне или сказал кто-то другой.
И зам долго не мог взять в толк, о ком шла речь, несколько раз переспрашивал, а когда, наконец, дошло до него, он тихо изумился, почему-то оглянулся назад и с минуту не мог закрыть рта.
— Вы это... серьёзно?
— Простите, за такую шутку...
— Впрочем, извините... Оставьте мне... это дело. — И опять обернулся, словно за его спиной мог кто-то быть.
Спустя довольно много дней папка № 25 перекочевала в кабинет первого заместителя заведующего отделом, куда через довольно продолжительное время вызвали Владимира Павловича
— Вы в своём уме? — Накинулся на него первый зам.
Владимир Павлович опустил глаза. Точно такой же вопрос ему задавала жена, услышавшая от него откровение, отчего он за последние месяцы так сильно сдал.
— Вы отдаёте себе отчёт в том, чем занимаетесь?
— Да, отдаю. Я сознательно пошёл на решение этого вопроса.
— Вы что, хотите оказаться рядом с этим... Ивановым-Чапаевым и скомпрометировать весь отдел?.. Мы находимся в преддверии пленума, который должен будет стать важнейшим историческим событием, а вы... Это же — мальчишество, наивность и, если хотите, вопиющая безответственность верить каким-то склеротикам, даже если они и были когда-то знаменитостями. — Первый зам прошёлся по кабинету, постоял у окна, вернулся и сел за стол. Прежним глуховатым голосом спросил: — И потом, разве это все имеет отношение к вашему сектору?
— Нет, разумеется.
— В таком случае, зачем вы взялись не за своё дело?
После каждого предложения замзавотделом делал паузу, как будто ждал от подчинённого ответа. Владимир Павлович же молча выслушал тираду, произнёс лишь два слова, чем, судя по дальнейшему его поведению, заслужил бессловесное прощение, и был отпущен.
2
Сам заведующий отделом пригласил Владимира Павловича к себе уже после свершившегося «исторического события». К удивлению вошедшего, завотделом не стал выговаривать ему за проявленную им инициативу об освобождении прославленного человека. Спокойным, даже вроде бы равнодушным тоном он заметил только, что имеющихся в папке материалов ещё недостаточно для доклада выше.
— А если послать к нему сына, Александра Васильевича Чапаева? — робко подал голос его первый зам, видимо, под чьим-то влиянием изменивший свою прежнюю точку зрения.
— Пока — ни в коем случае, — возразил заведующий.
— Извините, — вступил в разговор без обращения к нему Владимир Павлович. Настроение у него резко подскочило вверх, и он готов был схватить Бога за бороду, — ваше разрешение — и я обращусь за помощью к профессору Герасимову.
— Разрешаю. А пока — за то, что самостоятельно взялись не за своё дело, объявляю вам выговор. При отрицательном заключении Герасимова получите более серьёзное взыскание, вплоть до наказания. Идите.
Владимир Павлович знал, на что шёл, и был готов к любому повороту судьбы, лишь бы восторжествовала истина. Он верил в её торжество.
Тем временем обстановка вокруг него вызывала явную настороженность: его загрузили заданиями так, что дыхнуть было некогда, не то что выспаться вволю. Вот уже три месяца нет ответа от Рекутова на письмо Данильченко. А тут ещё и на профессора Герасимова вдруг навалилась тьма на редкость ответственных заказов от правоохранительных органов — один важнее другого. Неужели против него началась скрытная и целенаправленная возня, чтобы он прекратил подъем со дна Урала Чапаева? По поводу папки № 25 начальство отдела хранило полное молчание. Возможно, другие папки с делами о реабилитации бывших репрессированных, которых много в отделах ЦК, отвлекли от этой его папки? Подсознанием или ещё чем-то он чувствовал сгущение туч над ним.
Вся надежда была на профессора Герасимова. Владимир Павлович уже который раз звонил ему и слышал тот же ответ: Михаил Михайлович очень и очень занят. И этому он верил, раз на звонок из самой высокой в стране инстанции ему некогда было снять трубку. Владимир Павлович крадёт у самого себя невероятно дорогое время и едет в институт к Герасимову.
— Прошу прощения, Лубянка над душой стоит, — пожаловался профессор Владимиру Павловичу, без промедления разрешивший ему войти. — Надо срочно установить погибшего в войну под Вязьмой внешность майора госбезопасности. А уж после этого я наверняка смогу поступить в ваше распоряжение. Не возражаете?
Но и после окончания данной работы у подъезда его дома каждое утро профессора ждала легковой автомобиль с двумя амбалами в гражданском. Однажды Герасимов набрался смелости и сослался на сильное недомогание — с недельку требуется отдых. В тот же вечер с ассистентом и авторитетным психиатром с бумагой от комиссии по рассмотрению дел репрессированных с переснятыми фотокарточками «уральского субъекта» выехал в аэропорт. У профессора к тому же в тех местах были и свои научные интересы как историка и археолога.
По пути в аэропорт его встретил в условленном месте Владимир Павлович, пожелал ему успехов и передал просьбу своего заведующего отделом действовать без огласки и с предельной осторожностью.
—Я с необыкновенным желанием и надеждой отправляюсь туда, — признался профессор.
3
С напряжённейшим нетерпением ждал Владимир Павлович возвращения экспедиции с Южного Урала, которая, по его мнению, почему-то задерживалась. Первым вернувшийся психотерапевт и патологоанатом Муромцев обрадовал его по телефону:
— Знакомство с «уральским субъектом» подтверждает вашу версию. Минимальная патология в психике вызвана длительным душевным напряжением и неблагоприятной внешней средой. И ещё. Организм у него, скажу я вам, воистину железный.
— Надеюсь, вы не говорили руководству больницы и области об этом?
— Ну, конечно же, не говорили. Больше того, мы начинали знакомство не с него, а с других больных. Да и кончили не им. Профессор передал вам большой привет и сказал, что вы можете праздновать победу.
Что-то внутри мешало Владимиру Павловичу не то что ликовать, но просто быть довольным.
Вернувшийся двумя неделями позже Михаил Михайлович Герасимов сообщил по служебному телефону, что «уральский субъект» есть не кто иной как предполагаемый вами человек. Тем не менее, он сделал снимок его головы и на основании сравнительного анализа с представленными снимками лица, сделанными до лбищенской трагедии, составит официальное заключение, которое будет готово через четыре дня ровно в это время.
И тут неожиданно и совсем не кстати Владимира Павловича срочно направляют в командировку в Алма-Ату на целых двадцать дней.
— В вашем распоряжении три часа, чтобы заскочить домой, добраться до аэровокзала и зарегистрироваться, — сказал заместитель заведующего отделом. Он вручил ему уже заполненное командировочное удостоверение, билет на самолёт и перечень вопросов, по которым предстоит подготовить справку. — Расходный ордер на денежный аванс в кассе. Звоните в гараж — и желаю успеха.
— Извините, чем вызвана такая спешка?
Замзав пожал плечами и показал на потолок.
За пять минут до выхода на посадку Владимир Павлович позвонил профессору Герасимову, чтобы предупредить его о своём отъезде и попросить попридержать заключение до возвращения из командировки. Секретарша узнала его по голосу и ответила, что профессор уехал куда-то в Подмосковье на эксгумацию. Завтра будет у себя. Свою просьбу через неё передавать не решился. Повесил трубку и вздохнул: какая неудача! А вдруг он заключение кому-нибудь другому из ЦК?
Его опасение подтвердилось. Вернувшись из Казахстана, Владимир Павлович первым делом позвонил профессору Герасимову.
— Как?!. На пятый день после моего к вам звонка прибыл ваш посланец, и я отдел ему фотоснимки и заключение, — сообщил удивлённый Михаил Михайлович.
Перехватили! Теперь — добра не жди. Тревожное чувство охватило Владимира Павловича. Состояние подавленности и беспомощности прибавилось к тревожному предчувствию. Все же справку он составил обстоятельную и вовремя. После двух замов она дошла до заведующего, которому она понравилась.
Только из-за этого он и пригласил его к себе? Начальство, как правило, не вызывает хвалить, и Владимир Павлович приподнялся, чтобы уходить.
— Одну минуточку, — придержал его заведующий. — Обязан вам сообщить, что решением секретариата вы вновь направляетесь в Алма-Ату, на сей раз в распоряжение ЦК Компартии Казахстана...
— Надолго? — Проявил бестактность Владимир Павлович, не дослушав до конца.
— Очевидно, на постоянную работу. Кстати, вы там понравились руководству. Три дня на сборы. Направление возьмёте в отделе парторганов. И мой вам совет, Владимир Павлович: навсегда забудьте об Иванове, который выдаёт себя за Чапаева и с которым вы возились, как курица с яйцом.
ГОД 1971. МОСКВА. КРЕМЛЬ
Секрет до тех пор остаётся секретом, пока он известен одному. А когда о нем знают уже три человека или более — это уже не секрет.
В Москве и за её пределами «секрет» о жизни Чапаева после Лбищенска знали уже многие. Даже те, кому этого до поры до времени знать не положено. Вслед за не беспричинными анекдотами на чапаевскую тему по стране поползли слухи о том, что Василий Иванович Чапаев якобы жив и находится в месте не столь отдалённом, не то в психушке.
От авторитетных работников с оговоркой «не для печати» Владимиру Павловичу, партаппаратчику одного из обкомов Казахстана, стало известно, что большая группа ветеранов 25-й дивизии написала в адрес ХХIV съезда КПСС письмо. Авторы его требовали сказать народу правду о легендарном герое гражданской войны Чапаеве. Если же этого нельзя сделать по идеологическим соображениям, то необходимо хотя бы немедленно освободить ни в чем не виновного и социально не опасного 84-летнего человека из позорнейшего заточения и дать ему возможность в лучших, достойных условиях прожить остаток жизни по его желанию...
Их письмо с папкой № 25 от секретаря ЦК по идеологии Демичева перекочевало в кабинет Суслова, чёрного кардинала Кремля, а оттуда — к Брежневу.
Первому вождю начали читать эти документы, но он прервал читавшего:
— Много там?
Читавший назвал количество документов и сколько всего страниц.
Леонид Ильич недовольно поморщился:
— Перескажите суть.
Когда рассказали ему обо всем, Брежнев, пошамкав, спросил равнодушным тоном:
—А Михаил что? Это по его ведомству.
— Вот, пожалуйста, резолюция Михаила Андреевича Суслова: «Нам он не нужен живым».
— Так зачем вы меня отвлекаете? — Окинул взглядом пришедших к нему мужчин.
Те неловко замялись. Очевидно, Брежнев все-таки проявил какой-то интерес к делу, потому что спросил:
— Сколько ему лет?
— Михаилу Андреевичу?
— Да не-е-т. Чапаеву?
Ему ответил севший в лужу крупный партчиновник.
— Пусть он остаётся мёртвым. Мертвому чести больше.
Мнение редакции сайта может не совпадать с мнением автора.
Комментарии
Комментариев пока нет