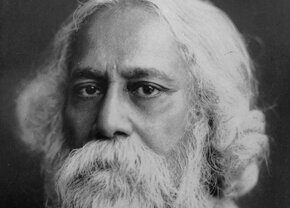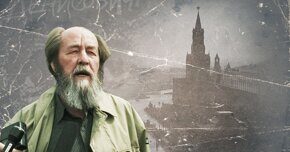Олег Прудников: Победа под Себежем 27 февраля 1536 года – героическая страница в истории защиты западных рубежей Отечества 24.02.2016 20:12
Олег Прудников: Победа под Себежем 27 февраля 1536 года – героическая страница в истории защиты западных рубежей Отечества 24.02.2016 20:12В новейшей традиции февраль не напрасно остаётся накрепко связанным с чествованием защитников Отечества. Действительно, 2 февраля не только Русский мир, но и вся планета встречает очередную годовщину Сталинградской битвы. Легендарный бой «Варяга» и «Корейца», вдохновивший всё российское воинство, состоялся 9 февраля. К 13 февраля 1944 года, после отражения ураганных контрударов сжатой в предсмертный кулак эсэсовской танковой армады, Солдатами-освободителями был полностью взят фашистский Будапешт. Дата 20 февраля всегда напоминает о первых шагах Ополчения 1611 года, которые были сделаны на дорогах неприметной Канавинской слободы, там, где и сегодня каждые сутки множество поездов отправляется из Нижнего Новгорода к Москве. В честь этого события и в ознаменование всенародного подвига спасения России от наполеоновского нашествия «двунадесяти язык», в тот же день, в 1818 году был торжественно открыт ставший в одночасье и на века знаменитым памятник Минину и Пожарскому, выполненный в столице Иваном Петровичем Мартосом. С наступлением 23 февраля 1804 года, указ императора Александра I-го Сенату известил об учреждении закрытой морской базы в акватории славного и, судя по его имени, поистине священного города русских моряков – Севастополя, получившего статус «Главного военного порта» Черноморского флота…
Гораздо меньше говорится о важной и яркой победе под Себежем, одержанной над польско-литовскими захватчиками к концу февраля 1536 года в ходе одной из «забытых» и, как часто кажется, незначительных войн XV – XVI столетий, которые постоянно вели наши соотечественники для защиты западных рубежей Русского государства. Речь идёт о Стародубской войне, когда на долгое время определялась судьба исторических белорусских земель – от южного Гомеля до обширных северо-западных территорий с новообразованными потом уездами старой Витебщины.
Себежская крепость с Троицким собором, построенным в честь победы 1536 года
То были годы тяжелейших испытаний для возникшей в окружении внешних и внутренних врагов русской централизованной державы. Они выпали на долю созидателей совсем недавно провозглашённого Великого княжества Московского. Проблема заключалась в том, что внук Василия Тёмного, официального учредителя напугавшей Западную Европу объединённой «Московии», признанный преемник власти византийских базилевсов Василий III-й, окончательно собрал воедино вотчины смирившихся княжеств Владимирской Руси, отменил удельную систему, но не успел оставить после себя совершеннолетнего наследника. В декабре 1533 года на московском престоле оказался трёхлетний ребёнок, ещё не известный под именем Грозного царя. Правление его матери, Елены Васильевны Глинской, практически совпало с периодом Стародубской войны.
В Кракове и Вильне пристально следили за ходом московских государственных дел. Стоило проявиться расколу в составе княжеско-боярского опекунского совета, вероломный план дальнейшей агрессии против России созрел мгновенно. Предыдущие попытки продвижения вглубь русских областей не увенчались особым успехом. При Казимире IV-м Литва прекратила борьбу за Новгород и отказалась от претензий на Великие Луки, Псков и Тверь, а затем потеряла Брянск, вернувшийся в пределы молодой Московской Руси. Позднее сыну Казимира Сигизмунду Старому пришлось уступить, и армия Василия III-го отобрала заветный Смоленск.
Следует заметить, что с затронутого нами исторического момента характер межгосударственных конфликтов и династических распрей, постоянно затевавшихся между «сильными родами» русско-литовских феодалов, безвозвратно переменился. Вместо взысканий за «высокую честь» или обычных имущественных требований, в общественно-культурную жизнь польской шляхты вошла другая традиция. Возросло и быстро распространилось крайнее, доведённое до физической ненависти неприятие всего русского. Например, законную супругу Александра Ягеллона – брата и предшественника Сигизмунда I-го, родную сестру Василия III-го Елену Ивановну, не короновали из-за сохранённого ею православного вероисповедания. В итоге её, вдовствующую королеву Польши, захотевшую вернуться на родину, заточили в замковую тюрьму и отравили всего за несколько недель до взятия русскими Смоленска. Так что странное мнение некоторых современных учёных об отсутствии слепого религиозного ожесточения по отношению к России в среде западноевропейской социальной элиты и, в частности, у правящих кругов польско-литовской воинствующей аристократии на грани XV и XVI веков нельзя назвать ни правдивым, ни, тем более, доказанным. К сожалению, мы убеждаемся в обратном.
Рыцарь польско-литовской шляхетской конницы
Литве и Польше слабость кремлёвского правительства Елены Глинской представлялась очевидной, ибо в темницы поочерёдно отправлялись его высокородные члены, братья Василия III-го, а с ними Андрей Шуйский, Михаил Глинский и Андрей Старицкий. Гетманы короля спешно приступили к подготовке нового похода. Прежде всего, они стремились ударить на Северские земли силами литовского «посполитого» люда, захватывая Гомель и Стародуб. К тому же, им не давало покоя утраченное стратегическое господство над Смоленском. С целью скорейшего развязывания войны вельможи не просто сочинили в феврале 1534 года знакомый историкам и правоведам ультиматум с содержащимся в нём провокационным требованием к Москве о добровольной передаче Смоленска. Сегодня мы обладаем дополнительными сведениями. Археологические исследования, проводившиеся под Вильнюсом восемь лет назад, засвидетельствовали факт использования придворными канцеляриями Сигизмунда фальшивых денег для обмана при вербовке массы наёмников. Солдат предполагалось придавать конному войску отдельными отрядами, по мере развития вторжения – в виде определённого «мобилизационного резерва» Великого княжества. Поэтому, несмотря на срочное введение военного налога в январе 1534 года, «серебщины», обеспечить приток профессиональных грабителей решили посредством тайной чеканки низкопробных, еле посеребрённых монет. Подобные экземпляры, датированные апрелем 1535 года, были обнаружены в спрятанном до возвращения из русского похода вильнюсском кладе какого-то местного или немецкого конкистадора.
Начальный сбор войск поместного ополчения был назначен королём в Минске и состоялся в мае 1534 года. На Смоленск нацелились хоругви князя Ивана Вишневецкого. Потомок Гедимина в десятом колене, он, наравне с представителями большинства шляхетских фамилий, произошедших когда-то от русских родов, уже превратился в исправного польского магната. Такими же знатными поляками, полностью порвавшими с древнерусскими, да и с литовскими корнями, Д. И. Иловайский специально показывал Огинских, Воловичей, Тышкевичей, Ходкевичей, Острожских. Данный процесс не был стихийным. Именно в период недолгого замужества московской княжны Елены Ивановны, в правление Александра Казимировича Ягеллона, при соблюдении необходимых формальностей, перерождение векового литовско-русского дворянства в польско-литовский господствующий класс неминуемо завершилось. Причём, произошло это за много лет до образования Речи Посполитой. Виленский сейм 1499 года выпустил однозначное постановление. Великий князь Литовский не мог избираться без согласия Польши, и тот же способ объявления монарха утверждался относительно краковской короны. На этом магнаты не остановились. В октябре 1501 года появился Мельницкий привилей. Он гласил, что королевство Польское и Литва «должны составлять единое государство». Не прошло и четырёх лет, как в Радоме появилась конституция, ставшая образцом для неограниченного своеволия и польской, и литовской шляхты. С той поры всякое проявление внешнеполитических интересов Вильны и Кракова находилось в прямой зависимости от главного курса – тотального противостояния России.
По договорённости с крымским ханом, облегчить внезапное продвижение к Чернигову и Стародубу отрядам гетмана Немировича, принадлежавшего польскому гербу Ястржембца, снова взялись татарские союзники. Их привычный набег со стороны «заокской украины» северо-восточной Руси должен был отвлечь неподготовленного противника и способствовать беспрепятственному захвату городов. Но здесь предприимчивые стратеги просчитались. Сводная русская армия, которая вышла из трёх центров единой линии пограничной обороны страны от севера до юга, Опочки, Смоленска и Стародуба, совершила ответный глубокий рейд на столицы панской Литвы, Вильну и Новогрудок. Стартовая кампания агрессоров провалилась. Взбешённый король Сигизмунд призвал на помощь польское ополчение.
![1017231-pic2[1]](/thumb/2/baNZEt-pUeq9hsBl6aTn4w/580r450/d/1017231-pic2%5E5b1%5E5d.png)
Лето 1535 года порадовало врагов. Крымские недруги России выполнили обещание, и воинские силы Москвы сковало масштабное нападение турецких вассалов. В июле, пока татарская конница рвалась до Рязани, к неприкрытому армией Стародубу подоспело сорокатысячное войско под командой коронного гетмана Польши Яна Тыссовского и польного гетмана Литвы Анджея Немировича. При них находились гетманы Ян Глебович, выходец из литовско-русских бояр, объединённый польским гербом Леливы с родом Тыссовских, а также Юрий Радзивилл и Илья Острожский. Стойкий гарнизон Стародуба сражался до конца. В захваченной крепости и близлежащих селеньях не выжил никто. Тринадцать тысяч человек явились жертвами озверения «просвещённых» завоевателей, имевших обыкновение нести порабощённым сословиям своих городов Магдебургское право. А тут, вдали от «цивилизации», кровавая участь ожидала и соседний Почеп, если бы его горожане сами не оставили варварскому нашествию пустое пепелище.
Разорив южный рубеж Московского государства, хозяева Вильны с тревогой наблюдали за тем, как следующей весной из пепла восстал Стародуб. Мало того, на северной границе, рядом с Ливонией, поднялись мощные русские крепости Себеж и Заволочье. В наступившем 1536 году польско-литовские захватчики не могли знать, что эти городки, отстроенные в течение считанных месяцев, на исходе XVIII века, со всем северо-западным краем преобразятся в тихие белорусские уезды, станут родными местами для Р. Г. Державина, Д. И. Фонвизина, семьей Михельсонов, Витгенштейнов, Пестелей, Бакуниных. Вплоть до 1920-х годов их общим домом будет тысячелетний Витебск. Но война продолжалась.
Замковая гора Себежа, где стояла крепость XVI-го века
Зачинщики агрессии не получили желаемого. Казалось, они запросили мира. К февралю, через два года после предъявления ультиматума российской правительнице, активные военные действия прекратились. Однако Сигизмунд I-й не расставался с хитрой тактикой. Однажды, в 1517 году, на переговорах о перемирии с русским двором он «мастерски» пользовался ситуацией. По пятам «мирного» посольства к Пскову отправилось двадцатитысячное войско князя Острожского. По оценке вероломных вояк, на их пути стоял «свиной хлев», маленькая Опочка. Всё же, обойти её им не пришлось. Летопись донесла до нас, как русские герои «побиша много множества людей королевских». Надо сказать, Иван Грозный очень любил эту надёжную крепость и в своё время забирал её в опричнину. По истечении же двадцати лет со дня избиения «парламентёров» в Опочке подлый приём был применён без изменений. История в точности повторилась: те же переговоры о мире, то же направление коварного удара, такие же двадцать тысяч конников. На сей раз бандитский марш под прикрытием московских переговоров возглавили испытанные убийцы стародубцев, гетманы Немирович и Глебович. Чуть-чуть не добравшись до Опочки, шляхтичи атаковали Себеж – и достигли результата двадцатилетней давности!
Возведение новых крепостных сооружений Себежа приобрело для русского правительства серьёзное значение. Из Москвы прислали Петра Фрязина, «архитектона» Китай-города. Немедленно созданная в условиях войны деревянная крепость вместила пятьсот пищальников и более полутора тысяч служилых дворян – «детей боярских», присланных с лошадьми и подводами от Новгорода, Пскова и Опочки. Укрепления усилили земляными батареями, выступавшими за вал и бревенчатые стены форта. Для снабжения гарнизона завозились тысячи туш свинины, мука, толокно, солод. «…Князь великий, – намеренно отмечалось в летописи про малолетнего государя, – приказал архиепископу Макарию священников соборных туда послати, а самому имя граду нарещи. И Макарий имя нарек Иван-город на Себеж». Тем Новгородским архиепископом был выдающийся впоследствии святитель, один из столпов Русского Православия Макарий Московский.
Защитники Иван-города на Себеже
Недолго внушительная орда спесивых воителей продержалась у Себежа. Русская артиллерия работала лучше. Бесславный конец настиг чинов пиратского войска, когда совершилась смелая вылазка защитников крепости. Нападавшие превратились в беглецов, а Себежское озеро – в Чудское. Подо льдом нашли последнее пристанище все участники позорной гетманской экспедиции. Победа под Себежем 27 февраля 1536 года не забылась и не канула в Лету. Она отразилась в творчестве народа. В эпоху Петра Великого былинные песни и «старинки» бахарей сообщали, что Себеж освобождал сам Илья Муромец…
Комментарии
Комментариев пока нет
Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.![Себежская крепость с Троицким собором, построенным в честь победы 1536 года 209872_original[1]](/thumb/2/PKJ02q8UC31CvPd0EPvDcQ/r/d/209872__original%5E5b1%5E5d.jpg)
![Рыцарь польско-литовской шляхетской конницы _________[1]](/thumb/2/C8NviPeMUc2FgJ0HEDnNpA/580r450/d/__________________%5E5b1%5E5d.jpg)
![Замковая гора Себежа, где стояла крепость XVI-го века 211912_original[1]](/thumb/2/_QsS2YkF-2qraKCeODN_HQ/580r450/d/211912__original%5E5b1%5E5d.jpg)
![Защитники Иван-города на Себеже 3211ed9ddbaf[1]](/thumb/2/5xLjg2-mFFNnmJaOMmWx1A/580r450/d/3211ed9ddbaf%5E5b1%5E5d.jpg)