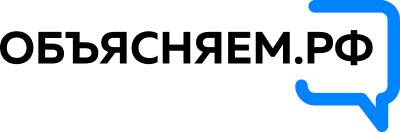Михаил Рощин: Вспоминая Николая Глазкова 05.02.2016 19:33
Михаил Рощин: Вспоминая Николая Глазкова 05.02.2016 19:33Искренне благодарю за помощь в работе над статьёй Ирину Винокурову, исследователя творчества Николая Глазкова, и Владимира Штейна.
Николай Иванович Глазков (1919 – 1979) был хорошо известен в 1950-е-1970-е гг. в кругах московских литераторов и творческой интеллигенции. Он родился 30 января, но поскольку в его поэзии была сильна вакхическая стихия, на свое 50-летие он написал об этом так:
Пусть трезвости исчезнет тень,
Сияет выпивки заря,
Поэт Глазков родился в день
Тридцатый пьянваря!
У глазковского героя, поэта Амфибрахия Хореева «на его затылке,
Словно спирт в полтавском штофе, крепком,
Возвышалось горлышко бутылки,
Остроумно вделанное в кепку».
Такого рода народные скоморошьи изюминки очень присущи стихотворному творчеству Николая Ивановича. Сама поэма об Амфибрахии стала настоящим шедевром скоморошье-питейного жанра, имеющего мало аналогов в русской поэзии, но в силу непонятных перекрестий напоминающего традиции арабской и персидской винной поэзии (хамрията).
Глазков начал писать стихи в непростые 1930-е гг. Позднее он вспоминал: «В 1932 г. я ехал в поезде и от нечего делать стал сочинять стихи. Когда я увидел, что они очень быстро рифмуются, то испугался и прекратил». Но только на время, и вскоре снова начал писать. Характерной особенностью Глазкова со школьных лет была исключительная самостоятельность в суждениях. Его одноклассник Евгений Введенский позднее вспоминал:
Однажды, помню, было задано нам домашнее сочинение «Образ Левинсона в романе А.Фадеева «Разгром». Раздав в классе проверенные сочинения, учительница сказала о каждом несколько слов, а затем обратилась к Глазкову: «Ну, Глазков, этого я от вас не ожидала! Как можно делать такие выводы, какие сделали вы? Я поставила вам неуд». Глазков равнодушно поднялся и взял протянутое ему сочинение. На перемене я спросил его о причинах такой отметки. Он ответил: «Я доказал, что Левинсон был профан в военном деле, поэтому его и разгромили. В доказательство я привел афоризм Шота Руставели: «Сотня тысячу осилит, если мудр вождя совет».
Сам Николай Иванович о школьных годах вспоминал:
А школа мало мне дала:
Там обучали только фразам,
А надо изучать дела
Затем, чтоб развивался разум.
В 1941 по рекомендации Николая Асеева Глазков был принят в Литературный институт. Там у него появилась возможность общаться с другими поэтами, особенно он сдружился с Михаилом Кульчицким, который ушел на фронт и погиб 19 января 1943 г., сражаясь с фашистами в Луганской области. Памяти Кульчицкого Глазков написал одно из самых ярких своих стихотворений:
В мир иной отворились двери те,
Где кончается слово «вперед»…
Умер Кульчицкий, а мне не верится:
По-моему, пляшет он и поет.
Умер Кульчицкий, мечтавший в столетьях
Остаться навеки и жить века.
Умер Кульчицкий, а в энциклопедиях
Нету такого на букву «К».
А он писал стихи о России,
С которой рифмуется неба синь;
Его по достоинству оценили
Лишь женщины, временно жившие с ним.
А он отличался безумной жаждой
К жизни, к стихам и пивной,
И женщин, любимую каждую,
Называл для чего-то своей женой.
А он до того, как понюхать пороху,
Предвидел, предчувствовал грохоты битв,
Стихами сминал немецкую проволоку,
Колючую, как готический шрифт.
По словам Евгения Евтушенко, его всегда поражало «чудо естественности» в поэзии Глазкова. В качестве примера он приводит эти строки:
Я иду по улице:
Мир перед глазами,
И слова стихуются
Совершенно сами.
Экспрессия, склонность к неологизмам и афористичность были характерны для поэзии поэта. Вот одно из наиболее известных четверостиший Глазкова:
Я на мир взираю из-под столика.
Век двадцатый – век необычайный.
Чем столетье интересней для историка,
Тем для современника печальней…
Поэт также известен тем, что придумал два термина для неофициальной поэзии и литературы: «самсебяиздат» и «самиздат». Первый рукописный сборник был составлен молодым поэтом с помощью друга Алексея Терновского в 1940 г. и был отправлен Алексеем в Казань, где жил его отец, большой поклонник поэзии и библиофил, для перепечатки на машинке. Отец Терновского выполнил просьбу сына, и сборник был перепечатан в трёх экземплярах. Сборник не предназначался для какого-либо широкого распространения и благополучно сохранился в двух экземплярах. По всей видимости, этот сборник можно считать первым опытом глазковского самиздата. Позже поэт вспоминал: «Самиздат – придумал это слово я еще в 40-м году». В одной из рукописных книжек 1945 г., обнаруженных Винокуровой в архиве сына поэта Н.Н. Глазкова, Глазков говорит:
Утверждаю одно и то же я
Самиздатным стихом, не стихая…
Так Николай Иванович впервые непосредственно выходит к слову «самиздат», хотя сам впоследствии больше тяготел к термину «самсебяиздат», который, начиная с 1950-х гг., становится, по словам Винокуровой, своего рода его «издательской маркой». В это время Глазков начинает активно переписывать и все чаще перепечатывать на машинке свои стихи, изготавливая маленькие самодельные книжечки.
Известный поэт и переводчик Генрих Сапгир позднее вспоминал:
Был я у Глазкова в конце 50-х. Переулок возле Арбата. Бревенчатые почему-то стены, во всяком случае, темные, закопченные. В красном углу иконы и лампадка. Трепетный огонек в темно-красном стекле. Меня это поразило, помню. Не у каждого писателя такое можно было тогда увидеть.
Николай Глазков сидел и переводил какие-то восточные стихи. Кажется, у него не очень складывалось. Тогда, не долго думая, он посадил меня переводить эту нескладуху. Чего-то я ему насочинял. Хозяин виду не подал, что я его выручил. Такой чудак и «шизик» себе на уме.
Характерный лоб, запавшие темные, острые глазки, длиннорукий. Ерник и пьяница — этим и спасался.
Cудя по имеющимся материалам, Николай Глазков в 1960-е гг. регулярно перепечатывал и распространял свои сборники стихов самиздатным способом, хотя в это время уже был членом официального Союза писателей СССР. Большую коллекцию таких машинописных сборников Глазкова я обнаружил в личном архиве моего друга Владимира Штейна, который вместе со своим отцом Сергеем Владимировичем был многолетним соседом Николая Ивановича в доме 44 на Арбате. Один из наиболее ранних сборников появился в начале апреля 1964. Сборник был подарен отцу Владимира С.В. Штейну в день его рождения 10 апреля 1964. В машинописных сборниках Николай Иванович печатал свои стихи за разные годы, не доходившие до официальной публикации. Как вспоминает Петр Горелик:
У себя дома на Арбате Глазков устраивал выставки таких книг. На одном из этих вернисажей мне довелось побывать. В тот раз «входным билетом» служила маленькая бутылочка – «мерзавчик» – водки [125 грамм – М.Р.]. Хозяин с благодарностью принимал этот взнос, вешал на бутылочку бирку с именем дарителя и ставил ее в один ряд с выставленными экспонатами – книжками.
Глазков не был политическим диссидентом, он был просто самобытным творческим человеком, не вписывавшимся в социалистический пейзаж того времени. В сборниках стихотворения были разного уровня. Встречаются иногда настоящие шедевры, например «Боярыня Морозова», написанная в 1946:
Дни твои, наверно, прогорели
И тобой, наверно, не осознаны…
Помнишь, в Третьяковской галерее
Суриков – Боярыня Морозова…
Правильна какая из религий?..
И раскол уже воспринят Родиной.
Нищий там, и у него вериги,
Он старообрядец и юродивый.
Он аскет. Ему не надо бабы.
Он некоронованный царь улицы.
Сани прыгают через ухабы,
Он разут, раздет, но не простудится.
У него горит святая вера,
На костре святой той веры греется
И с остервенением изувера
Лучше всех двумя перстами крестится.
Что ему церковные реформы,
Если даже цепь вериг не режется?..
Поезда отходят от платформы –
Ему это даже не мерещится!..
На платформе мы. Над нами ночи чёрность,
Прежде, чем рассвет прольётся розовый
У тебя такая ж обречённость,
Как у той боярыни Морозовой!..
Милая, хорошая, не надо…
И кому нужны такие крайности?
Я юродивый Поэтограда,
Я заплачу для оригинальности…
У меня костёр нетленной веры,
И на нём сгорают все грехи.
Я поэт ненаступившей эры,
Лучше всех пишу свои стихи!
Иногда в его сборниках проскальзывали нотки общественно-политического недовольства, например в стихотворении «Дорожное»:
В дождь и снег, во всякую погоду,
ЗИС-110 властно оседлав,
Едет по шоссе слуга народа,
Целеустремлён и величав.
Едет он в своём служебном зисе,
Вид его внушителен и строг,
Потому что от него зависит,
Так сказать, строительство дорог.
А автобус скачет через кочки
От его владычества вдали,
А в автобусе, что сельди в бочке,
Скучились хозяева земли.
.
Перед ними все пути открыты
И родные дали широки,
Но они ругаются сердито,
Потому что нет у них слуги!
Глазков о выпивке писал всегда с большим удовольствием. Вот, например, его классическая миниатюра, хорошо передающая атмосферу старой Тишинки (своего рода «блошиного рынка» советской Москвы):
На Тишинском океане
Без руля и без кают
Тихо плавают в тумане
И чего-то продают.
Продаёт стальную бритву
Благороднейший старик,
Потому что он поллитру
Хочет выпить на троих.
Миниатюра о благородном старике с Тишинского рынка стала сегодня самым популярным стихотворением Глазкова в Рунете.
Иногда Николай Иванович пробовал себя в кино. В 1966 г. он сыграл «летающего мужика» Ефима в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев».
Менее известно, что режиссер Вера Строева хотела, чтобы Глазков сыграл Достоевского в фильме «Особенный человек» и уже снимала его. Она позднее вспоминала: «Мы отсняли предпоследний кадр в сценарии: медленный наезд на глаза Достоевского… За кадром звучал колокольчик тройки, среди снегов увозящий осужденного. Это был очень длинный наезд – то, что вряд ли смог бы выдержать профессиональный актер. Николай Глазков пронес в своих глазах такую глубину мыслей и чувств, что те, кто видел его на экране, до сих пор не могут об этом забыть». К сожалению, по не вполне понятным причинам этот фильм был снят с производства и смыт.
Завершить рассказ о Глазкове хочется словами известной поэтессы Риммы Казаковой:
Николай Иванович Глазков был чистым, как ребёнок, светлым, добрым, как и положено нормальному гению. Сперва я читала его в самиздате, потом познакомилась лично и полюбила - воистину! – до гроба. До его печального, не отмеченного официальными фанфарами ухода из жизни. Его нежность, мудрость его внешне подчас ёрнических, а на деле глубочайших строк, – всегда со мной.
Комментарии
Комментариев пока нет