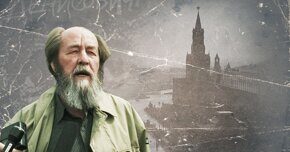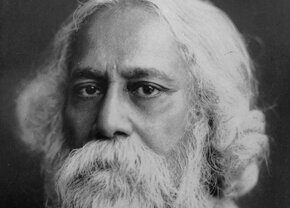|
« Назад 23.07.2018 19:31 Когда человек не в состоянии осознать проблему, у него нарастает поток разных неприятностей. Когда общество уклоняется от осознания проблемы, поток неприятностей нарастает у всего общества, включая осознающих, но неспособных докричаться до остальных. Долгое время я с недоумением слушал истории про стрельбу в американских школах. В наших школах ничего подобного представить себе было нельзя. Почему? Американцы тупые/дикие или мы слишком тонкие/одухотворенные? Что изменилось сейчас? Почему стрельба/резня стали для нас тоже привычными? Есть ли другие негативные проявления, чтобы включить их в эту грустную рефлексию? К сожалению, поток негативных проявлений можно продолжать: сексуальные скандалы любой направленности вплоть до самых элитарных школ, уголовные нравы в школьной среде, вымогательство денег у родителей, рабская зависимость учителя от директора и директора от органов власти, вбросы на выборах руками учителей, политическая пропаганда и антипропаганда в школе, слежка за учениками, учителями, директорами в соцсетях с последующими ханжескими противоправными последствиями, взаимная массовая неприязнь между всеми участниками образовательного процесса, прежде всего между учителями и родителями... Можно, конечно, упрямо утверждать, как в песне из старого советского сериала: «Просто, кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет…» Но массовость и широта негативных проявлений заставляют отнестись к такой попытке так же иронично, как мы относились к этой песне. Карма лупит уже по голове, призывая вынуть беруши из ушей, снять шоры с глаз, прищепку с носа и перчатки с рук: школа перестала удовлетворять потребности общества настолько, что ее сносят в меру сил, эмоций и культуры. Удерживает школу как общественный институт только два фактора: – сила инерции; – отсутствие альтернативы. Анализировать инерцию можно долго по каждому из субъектов. Единственный субъект, который вне инерции, – это дети. Они будут жить так, как их заставят взрослые (пока в состоянии заставлять и в рамках энергии удержания). При этом дети будут себя вести так или иначе, в зависимости от соответствия их потребностей созданным условиям: адекватные условия они будут удовлетворенно впитывать, неадекватные – безжалостно сносить. Причем, и то, и другое они будут делать неосознанно. Это мы, взрослые, должны рефлексировать и осмысленно строить условия, чтобы понимать причины довольного впитывания и недовольного сопротивления. Первые признаки сопротивления школе – народный образ Марьванны и слово «училка». Вроде, невинный стеб, но всенародно подхваченный на фоне публичных сентенций про «Учителя с большой буквы». Хорошо помню изучение общественного мнения в 70-е годы 20-го века, когда более 70% родителей при оценке ценностей школы на первое место поставили возможность спокойно уйти на работу. И это в советское время, когда мы самостоятельно мотались во дворе с эпизодическими набегами то одних, то других родителей. Особо отмечу – без сотовых телефонов! Тогда и проводной не в каждой квартире был. Мы можем сколько угодно спорить о ценностях образования и смысле этого слова, но и сегодня социальная функция школы является главным фактором в выборе родителя. У разных родителей разные требования к школе как «камере хранения», но сама функция важна всем. Смещение внимания учителя на образовательные ценности уже создает разрыв в ценностной картине с родителями. Избегающий ограничений и требований по безопасности ученик помогает учителю смещать ценностный баланс от задач сохранности. Совсем далеко уклониться от них мешает директор, который отвечает за все, но прежде всего за безопасность. В то же время, ценности ученика крайне редко лежат в плоскости «образования» в понимании учителя и школы. Чем дальше жизнь уходит от стандартных требований к подготовке работника, тем дальше от потребностей ученика школа в индустриальной модели образовательного конвейера, тем меньше общность целей традиционного учителя и современного ученика. Формальные требования к подготовке выпускника любого уровня образования не отвечают потребностям бизнеса, поэтому традиционные экзамены стали устаревшей формальностью, которую нужно пройти любой ценой с минимальными потерями и максимальным баллом. ФГОС важен только в патетических заклинаниях официальных лиц и зарабатывающих на этой риторике тренеров. Главный ориентир – госэкзамены и зачетные олимпиады. Именно поэтому вокруг них возник ажиотаж с махинациями и последующими экстраординарными мерами по их пресечению. Преодоление любых мер – дело времени. Уже сейчас появилось сомнение в их надежности. Если сегодня ложное – завтра будет достоверное, потому что любые правила соблюдаются, когда они нужны. Но отказ от ЕГЭ в пользу прошлых правил – бред сумасшедшего. И таких сумасшедших, к сожалению, много… Мы стараемся из последних сил, несмотря ни на что, поддерживать старый институт школы, хотя ценности всех ее участников полностью рассогласованы. Условная стабильность (закрывая глаза на негатив, с которого мы начали) живет за счет силовых удержаний и подпорок при отсутствии готовности подавляющей массы общества что-то менять. Ничтожная часть пассионарной части общества строит альтернативные модели обучения, причем заметная часть из них слабо отличается по логике от традиционной школы – там большее внимание уделяется эмоциональному климату. Тоже неплохо, но ключевых проблем школы не решает. Новый образовательный проект в новых цифровых приоритетах – «Цифровая школа» – рискует свалиться в экстенсивную практику, тянущуюся с начала информатизации 1985 года: наполнять школу цифровыми гаджетами и технологиями без изменения логики построения образовательного процесса – «обматывать школу проводами». Признаки такого подхода обнаруживаются во многих документах как прошлого министерства, так и в устных комментариях министра нового. Те же уши выглядывают и из планов распространить на всю Россию проекты типа московской электронной школы, которая пока и с Москвой не может технологически управиться. Да, даже если бы могла: сама идея того же индустриального подхода «все как один» противоречит современной логике цифрового развития. Главное преимущество цифровых технологий – уникальные логистические возможности. Самый наглядный пример в такси – «уберизация»: исключение посредника между заказчиком и исполнителем. Аналогичным системным прорывом цифровой школы могла бы быть цифровая логистика знаний: возможность строить в цифровой среде свою собственную образовательную программу в произвольном сочетании очных и дистанционных форм, в том числе полностью дистанционно. Но это новое понимание целей системы образования, которое впервые появилось в официальной риторике только 1 марта 2018 года в обращении президента. Это обнадеживает, хотя мы все понимаем неповоротливую инертность и системы образования, и всей страны... В новой модели образования, которая неизбежно появится (вопрос только в том, когда), обязаны быть согласованными цели и ценности всех участников образовательного процесса. Тогда исчезнет потребность в избыточном регулировании, бюрократии, жестких ограничениях и тестовых испытаниях в режиме спецопераций. В нормальном согласованном по целям и ценностям процессе правила нужны всем и в их соблюдении заинтересованы все – и тогда исчезает потребность в спецназе на экзамене. Поэтому настоятельно призываю задуматься всех о реальных своих целях, чтобы не оказаться загнанным в погоне за ложной целью и, не дай бог, попавшим под неадекватную реакцию других, тоже загнанных по ложным целям. КомментарииКомментариев пока нет
|